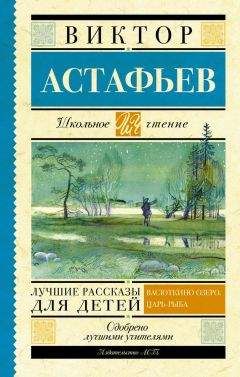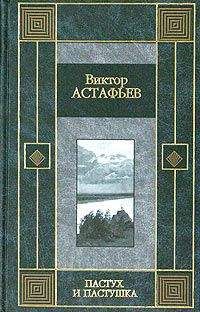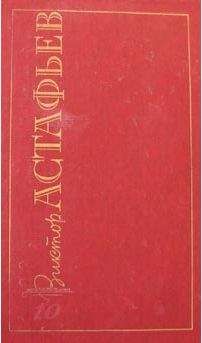Виктор Астафьев - Затеси
Они, видимо, что-то уловили в моем голосе. Одна из сестренок припала к моему уху и требовательно попросила:
— Не надо грустить, дяденька, война-то кончилась.
Они упорхнули от меня и снова стали играть под изуродованным кленом.
А я ел вишни.
Их было очень мало в пакетике, всего горсточка, и я подолгу держал каждую ягодку во рту и осторожно нажимал на нее языком, чтобы этой горсточки мне хватило как можно на дольше.
Поросли окопы травой
Темнело ошеломляюще быстро. Вечер не выползал с опаской из буераков и ложбин, как у нас на Севере, а сваливался сверху, сухой и душный.
Южный вечер — безмолвный и немного жуткий. Непривычный вечер. Ни зари, ни звука. Темень и тишь. Кузьма прибавил шагу. Я попросил:
— Не торопись.
Мы жили с Кузьмой вторую неделю в санатории и уже знали друг о друге все. Он знал, что я воевал под Ленинградом и немецкой миной мне вырвало четыре ребра и половину легкого. А Кузьма отступал здесь, по южной степи. И в какой-то придорожной канаве осталась его рука.
И вот мы бродили по степи, искали ту дорогу, ту канаву, и ничего не нашли. Люди уже перепахали военные дороги, обвалившиеся блиндажи, траншеи и неглубокие военные могилы без крестов. На полях, будто навощенные, блестели безжизненно сникшие листья кукурузы, вслед солнцу поворачивались подсолнухи, мягко колыхались и шуршали кисти проса да задумчивыми, утихомиренными волнами плескалась пшеница.
И все-таки следы недавних битв здесь еще можно было увидеть. Меж стеблей то тут, то там зеленели гильзы, ржавыми пятнами расползались осколки, торчали посеревшие от времени косточки.
Чьи они? Наши или чужеземные? Время, тлен, плуг пахаря и рука сеятеля все сделали для того, чтобы упрятать смерть в землю. Земля умела хранить, земля умела молчать, земля умела печалиться.
Земля.
Мы шли медленно. Кузьма молчал. Наверное, и я вот так же буду молчать, если мне когда-нибудь придется побродить по местам, где я воевал. Я тяжело волочил ноги и задыхался. Не с моим здоровьем бродить целый день по знойной и безводной степи.
— Сейчас будет место, где раньше стояла деревня, — приостановился Кузьма. — Обойдем?
— Давай прямо, далеко обходить-то.
Я не сказал — трудно, но Кузьма понял меня, и мы пошли напрямик.
Поля остались позади, в темноте, и мы шли по степной дороге, угадывая ее подошвами сандалий. На дороге еще с весенней распутицы остались и закаменели тележные колеи.
Неожиданно дорога повернула влево, должно быть, в обход заброшенной деревни, и мы пошли сначала по хрусткой траве, а потом влезли в бурьян…
В небе наконец-то прорезались синеватые звезды, рассыпались крошеным льдом, и далеко-далеко возник краешек луны. Белым грибом прорастала луна из черной, вознесшейся в поднебесье горы. Светлело небо, вырисовывались дальние перевалы, звоном цикад наполнилась степь.
Сделалось веселей.
Бурьян становился все выше и выше, мы брели по нему, будто по чаще. Я выбирал из волос шишки репья, какие-то колючки и чувствовал, как тяжелеет на мне одежда, обрастающая репьем.
— Не зря говорят, что самая длинная дорога та, что кажется короткой, — как бы оправдываясь, проворчал Кузьма и показал на темные бугры. — Дома были здесь когда-то…
Должно быть, Кузьма видел лучше меня. Я, сколь ни силился, не мог угадать здесь никаких признаков жилья. Темнели бугры, и на них однообразно шуршал густой бурьян да что-то потрескивало чуть слышно, и с бесконечным гудом звенели цикады. Так звенит в голове от контузии.
Вдруг совсем рядом, в лопушнике, кто-то заорал:
— Ау-ау! А-а-а-а!..
Кузьма отскочил ко мне.
— А-у-ау, а-а-а-а! Ау-ау-ау! А-а-а-а… — повторился вопль сзади и спереди. Это было похоже на вой сирены. Это было похоже на крик леших, которых мы никогда не видели. Это было похоже…
Я не знаю, на что это было похоже. Вой, визг, вопли неслись уже со всех сторон, и всюду мелькали зеленые огни, возникая то тут, то там. Они метались по бурьяну, пронзали темноту, эти живые и в то же время какие-то призрачные огни.
Я закрыл глаза и сжался. Но Кузьма рванул меня за руку, и мы побежали. Я не знаю, сколько и куда мы бежали. Не помню, когда кончился этот визг и вой, который рвал уши, вонзался в мозг, останавливал сердце.
Очнулся я на земле. Кузьма тряс меня.
— Еще немного, еще… вон огни…
Но я уже не мог идти. Кузьма схватил меня и поволок. Мы кое-как добрались до жилых огней. Кузьма бросил меня на крыльцо и забарабанил в дверь. Нам тотчас открыли, и чей-то голос, обыкновенный, человечий, земной, проговорил:
— Проходите, проходите.
Придерживаясь за притолку, я шагнул в сени, потом в избу, где горел яркий электрический свет и пахло ребячьими пеленками.
— Ну что, перетрусили, курортники? — с улыбкой разглядывал нас хозяин. — Не бродите, где не следует, да еще ночью, — зачерпывая воды из кадушки, добавил он.
Кузьма немного отпил из ковша, подал его мне, утер рукавом лицо.
— Что же это было?
— Кошки.
— Кто-о-о?!
— Кошки, — пояснил хозяин. Он вытер нос мальчишке, ходившему подле скамейки, и продолжал: — Они, заразы, загрызут, если оплошаешь…
Похолодела у меня мокрая спина. Кошки? Неужто те шаловливые друзья детства, мирные лентяи?
— И те и не те, — с тяжелым вздохом сказал хозяин и начал рассказывать.
…Было на свете село Славянывка. Спалили его фашисты. Разбрелись жители кто куда. А кошки остались. Людям было не до кошек. И фашистам было не до кошек.
А кошки плодились. Они забивались в разрушенные печи и на холодных подах, на остывших загнетах рожали детенышей. Уж никто не забирал украдкой котят у кошек и не топил их, как это делалось испокон веков, и никто их не кормил. Кошки выловили и съели всех мышей, крыс, добрались до сусликов, караулили птиц, и те уже не решались вить гнезда вокруг Славянывки. А если и вили, боялись подать голос.
Потом кошки раскапывали могилы, и люто грызлись, сатанея от мертвечины.
Когда жители вернулись в родной омертвленный край и поставили новую Славянывку в стороне от прежнего места, кошки приноровились таскать из дворов цыплят. Весной, во время мартовского разгула, они насмерть забили тех кошек, которых славянывцы привезли с собой.
Неуловимые, злые, стремительные, шлялись они по деревне ночью, царапались под окнами на чердаках, а утром куда-то исчезали.
Люди обращались в сельсовет за помощью, из сельсовета обратились в райисполком. Председатель райисполкома вначале подумал, что его дурачат. А потом пришел в неописуемое изумление и растерянность. Еще никто и никогда не воевал с кошками. И никто не знал, как это делать…
Наговорился хозяин и уснул. Угомонились и затихли дети. Управилась с делами хозяйка, закрыла накрепко дверь, загородила ставнями окна и тоже легла спать.
Я не могу уснуть. Сдавило горло, заложило грудь. Судорожный кашель перешиб дыхание, подхватил меня с постели.
— Плохо тебе? — шепотом спросил Кузьма.
— Ничего, Кузьма, ничего…
Утром меня на подводе повезли в санаторий. И снова по обочинам дороги усатилась и плескалась пшеница, снова шуршали сыпучие кисти проса, и тысячами солнц горели вислоухие подсолнечники, дружно повернувшие головы к востоку, туда, где поднялось над краем поля спокойное светило.
Я попросил Кузьму приподнять меня. Он пристроил мою голову к себе на колени, и мне стало легче дышать и было дальше видно. Я видел поля и огороды, обнесенные колючей проволокой, оставшейся от войны, гнутыми спинками кроватей и рамами автомашин. Я видел калитки, сделанные из дверок бронетранспортеров и крыльев самолетов. Подле них играли дети, в оградах женщины варили еду.
И новые деревни с молоденькими, но уже плодоносящими садами встречались нам. В одном из них одиноко ударил житель этих мест — соловьишко. Он еще боялся петь ночью, но днем, при солнце и людях, пробовал свой голос. Соловей без песни не может жить. И он еще раз ударил по струне и долго ждал, чтобы ему откликнулись. И когда укатился в хлеба его дробный свист, оттуда, с полей, донеслось: «Спать пора! Спать пора!» Перепелка! Соловью откликнулась перепелка. Совсем другая птица, призывающая людей спать в неурочный час.
Но и этой малой поддержки достало соловью. Он разошелся, затрещал, защелкал, рассыпая звонкие горошины в надежде, что они прорастут на земле многими песнями.
Я слушал этого, видно еще вдового, соловья, и сердце мое начинало биться ровней, и силы во мне прибавлялось, и я чувствовал, знал, что пересилю хворь и на этот раз, поднимусь и поживу еще.
Макаронина
Бывшему пехотному разведчику и верному другу — Евгению КАПУСТИНУ
На перекрестках военных дорог, в маленьком городке, в каком-то очередном учебно-распределительном, точнее сказать, военной бюрократией созданном подразделении, в туче народа, сортируемого по частям, готовящимся к отправке на фронт, кормили военных людей обедом, завтраком ли — не поймешь. Выданы были котелки, похожие на автомобильные цилиндры, уемистые, ухлебистые, словом — вместительные, и мы, бойцы временного, пестрого соединения, тая в своей смекалистой мужицкой душе догадку, думали, что уж такая посудина дадена не зря, что мало в нее не нальют, иначе будет видно дно и голая пустота котелка устыдит тыловые службы снабжения.