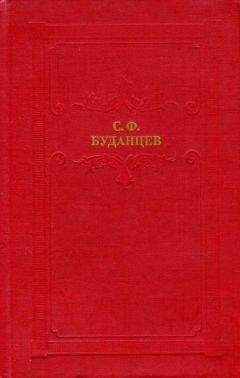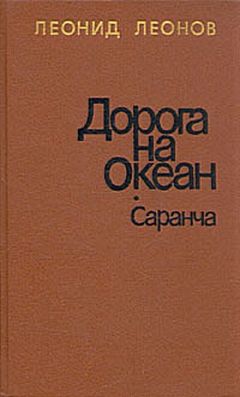Сергей Буданцев - Саранча
Она подняла маленький белый флажок и пошла по избитому, блестевшему на полуденном солнце шоссе к зейналовскому дому.
Войсковой старшина Деканозов, поручик Зиверт, корнет Миронов, хорунжий князь Эристов с полусотней Горско-Моздокского полка настоящих бичераховцев, которые сделали поход от Керманшаха до Багдада и обратно до Энзели, показали в стычке с отрядом Илико Санадзе, что мнение Петровича о прапорщиках к ним, пожалуй, не относится. Они хорошо расположили казаков в башнях дома, самую высокую угловую вооружили пулеметом и в окнах второго этажа посадили наблюдателей, выставили у моста прикрытие со вторым пулеметом и послали телеграмму в Ленкорань о том, что вступили в соприкосновение с знаменитым отрядом неуловимого Санадзе. Теперь весь вопрос был в том, чтобы задержаться до прибытия из города солидной помощи, а затем, втянув партизан за реку, окружить их и уничтожить. Деканозов приказал вести самую ленивую перестрелку, только не подпускать близко, следить за красными. Через несколько часов стрельба показалась сидящим в доме столь безвредной, что даже управляющий Зейналовых пан Казимир Рох-Томашевич, изрядно перетрухнувший с утра, теперь осмелел настолько, что собственноручно изготовил дивный салат к завтраку, сервировал в нижней столовой стол с закусками. Офицеры заканчивали завтрак, возясь у спиртового кофейника.
— Оставьте Миронову целого фазана, — распорядился Деканозов. — Прошу курить, господа. Однако что-то там затихло вовсе. Так нельзя.
Но в этот момент дверь распахнулась — пан Казимир сильно вздрогнул, — и вбежал белобрысый Миронов.
— Господа! Нам предлагают переговоры.
— Вы опупели, корнет, — сказал поручик Зиверт, как всегда деланно вялым тоном.
— Никак нет, извольте посмотреть сами. Они выставили белый флаг, я приказал прекратить стрельбу.
Офицеры пошли наверх, к слуховому окну на чердаке. Пан Казимир выпил полстакана коньяку, обжегся кофе и пошел за ними. Когда ему досталась очередь взглянуть в бинокль, он увидел в жидком пространстве ослепительную полосу шоссе, по которому шла молодая женщина в сером платье, в белой косынке, с белым флажком в руке.
— Вот так фунт! — сказал Деканозов. — Это какая-нибудь комедия.
— Бабец невредный, однако, — сказал долговязый Эристов.
— Вам, князь, — сухо приказал Деканозов, — надо ее встретить на шоссе, завязать глаза и привести сюда. Предлагаю соблюдать полную осмотрительность и порядок.
Настя шла твердым, размеренно-точным шагом и считала про себя шаги. Это ее успокаивало. Иногда она запрятывала счет куда-то далеко, однако не оставляя его, и тогда шептала: «Ты только не бледней, дуреха. Только не бледней. Ты лучше покрасней, когда придешь. А то подумают, что ты боишься». И она, не увеличивая и не уменьшая шага, только ускоряла его, дабы устать и покраснеть от жары. Но тогда сердце шумно и больно колотилось, как будто о самые ребра и где-то слева от ключицы, и дыхание свистело. Опять не годилось. Она ведь должна предстать парламентером, и нужно явиться не запаренной, а спокойной и самоуверенной. И она нашла такой подходящий ритм шагов, шагала, считала, счетом гнала посторонние мысли.
Слепило солнце, отражавшееся под насыпью в озере и прямо перед глазами, от известковых крупинок дороги, веял чуть прохладный ветер откуда-то — не то с персидских гор, не то с моря, пролетали редкие птицы, — но все было грозно-беззвучно и как бы предупреждало: не лучше ли вернуться. Но ее поддерживало другое чувство — совсем не стыд, что вот она трусит и готова дать стрекача, а чувство все увеличивающегося с каждым шагом освобождения от какой-то тяжести. Со времени смерти мужа она жила как будто в сером тумане, который окутывал ее, мешал дышать, говорить, пить, есть, двигаться… Правда, последнее время ее иногда как будто что-то освещало изнутри — это бывало тогда, когда надо было делать тяжелую перевязку, вставать ночью давать лекарство больному. Но едва она возвращалась к себе в шарабан — она возвращалась в себя, в тот же все обесцвечивающий туман. Она даже стала привыкать к нему, — краски, шумы, блеск мира перестали казаться реальными, а все, даже самые большие переживания людей, она измеряла глубиной своей печали, и естественно, все казалось мелко. И вот на пустынном шоссе, под угрозой наведенных на нее винтовок, она, сама дивясь и еще не смея радоваться, дышала все вольнее, и щурилась от блеска, и заботилась о впечатлении, которое ей нужно произвести, — и как это все выросло, сделалось важно и уж, наверное, не съежится ни в каком тумане.
Она поднялась на гору, теперь спускалась. Перед ней широкими извивами лежала Карасу — пересохшее русло с тощим ручейком, но, судя по мосту, сердитая во время дождей, да и мост был близок, но, не доходя до него, был поворот к усадьбе, куда к воротам вела аллея разросшихся пирамидальных тополей. На шоссе стояли долговязый казачий офицер и два казака в щегольских черкесках, с погонами. Она не смотрела на них, а смотрела на мост; до него от поворота было шагов сто, не больше.
— Стойте, — приказал офицер. — Вы к кому?
— К вашему командиру.
— От кого?
— От командира Интернационального отряда Бакинской коммуны, у меня письмо.
— И коммуны вашей нет, и отряда, надеюсь, не будет… Письмо давайте..
— Разрешите ей завязать глаза, ваше сиятельство? — спросил пожилой казак и подошел к Насте.
Он замотал ей почти всю голову не очень чистым полотенцем; было трудно дышать и жарко, тут уж не побледнеешь. Казак держал ее руку в большой, жесткой, как рукавица, ладони и вел, изредка говоря: «Направо, тут камень, тут ступенька». По ступенькам ее ввели в какую-то прохладную комнату и сняли повязку. И хотя это была только передняя, к тому же с закрытыми ставнями, зеленый свет в щели ставен ударил ее по глазам. Она огляделась. Дубовая вешалка, деревянные стулья с высокими спинками, особенно большое зеркало с подзеркальником — все это поразило ее роскошью, так она привыкла к болотистым и песчаным проселкам, горным тропам, к рваному бешмету Ашота и к виду двух тощих крупов лошадей, тащивших ее шарабан. Она села на непривычно жесткое сиденье тяжелого стула, казаки стояли у входных дверей. Откуда-то резко били развязно взятые аккорды рояля и деланно сочный голос — две-три ноты баритона, а остальное мычание — пел:
Как глупы те, воображаю,
Кто верит женщинам всегда!
Поверьте мне, я женщин знаю,
Они не любят никогда.
Присоединился другой голос, и оба запели припев:
А-а-ах, зачем
Увлекааться всем,
Если можно
Осторожно
Поиграть и перестать.
«Представляются», — подумала Настя.
Но ее что-то долго держали. Знакомая ей по детству тоска ожидания в передней богатого дома охватила ее. Мать часто посылала ее получать деньги за постирушки, за мытье полов, за уборку квартиры или с готовыми вещами — отца Настя не помнила, и ни разу не было случая, чтобы деньги выдали сразу, а вещь приняли без брани. Вероятно, иногда бывало иначе, конечно, бывало иначе, но запомнилось именно так: ожидание, бранчливое объяснение, обсчет.
Дверь открылась, обдало запахом кушаний, табачного дыма.
— Введите! — крикнул властный голос — Корнет, прекратите шум. Лучше пойдите сюда, посмотрите живую комиссаршу.
Настя тяжело, как в детстве, подавила вздох и вошла в столовую зейналовского дома.
Звуки рояля прекратились, и в столовую, звеня шпорами, вошел очень тонконогий белобрысый офицер. На его худом напудренном лице было явное желание выкинуть что-нибудь. Но главный — это был Деканозов — поглядел на него так, что он остановился на полпути и встал с наигранно беззаботным видом у двери в гостиную.
— Садитесь, сударыня, — сказал главный.
Настя села. Она уже давно внутренне окостенела от желания противиться всему, что ей будут предлагать, и в этом напряжении особенно жгуче и ярко выделялась одна мечта, один помысел, одно стремление: выбраться отсюда, выбраться как можно скорее.
— Вот что, — говорит Деканозов. — Благодарите вашего бога, что вы принадлежите к прекрасному полу. Если бы не это, отправились бы в штаб Духонина.
— Бабец недурен, — сказал Зиверт Миронову, тот захохотал.
Деканозов как будто ничего не заметил, и офицеры осеклись.
— Так скажите вашим негодяям — белая гвардия благородная. А вашего главаря мы повесим на том заборе, и, надеюсь, очень скоро, — Войсковой старшина распалялся и начинал покрикивать. — Вы знаете, что он осмелился написать?
— Я не читала письма, я исполнила, что мне поручено, — сказала Настя, как ей было приказано.
— Этот прохвост обнаглел до того, что нам, дравшимся на всех фронтах великой войны, пишет, чтобы сдались, и в том случае он, может быть, пощадит и отпустит офицеров.