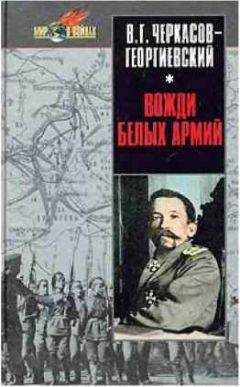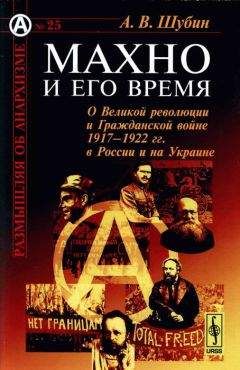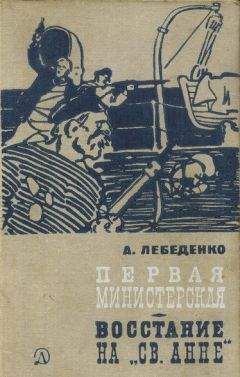Александр Лебеденко - Лицом к лицу
Сверчкову казалось, что теперь начнутся настоящие события. Английская эскадра. Фон дер Гольц. Ему захотелось посмотреть в глаза Борисову. Как он выглядит, этот спец-энтузиаст?! Не прибавили ли и ему морщин эти месяцы? Человек, на которого мог бы походить и он, Сверчков, если бы год назад пошел более прямой дорогой…
Мортирный дивизион, представлявший собою армейскую артиллерию латармии, вновь был взят из валкской группы и брошен на рижское направление. Опять Мариенбург. Штаб дивизии. Вот тогда-то и произошла вторая встреча Сверчкова с Бабиным, случайным знакомым по вокзалам семнадцатого года.
Однажды он поехал в штаб вместе с комиссаром.
Алексей застрял у начальника политотдела. В кабинете Борисова человек в кожанке курил у окна.
— Борисова? — повернулся он к Сверчкову. — Его уже нет. Его отозвали на Петроградский фронт, под Ямбург, — там начались бои… — Он стоял, раскачиваясь на толстых, прямых, как у статуи, ногах, держа руки в карманах. — А я вас где-то видел, но фамилию вашу я утратил.
Сверчков шагнул в сторону. Человек в кожанке отступил в свою очередь так, чтобы свет окна позволил Сверчкову взглянуть ему в лицо.
— Не помните? Ну, у меня исключительная память на лица. Я — Бабин, комиссар дивизии, а теперь извольте вспомнить, семнадцатый год и Полоцк. Этакий паршивенький вокзальчик, жидкий чан и ночь напролет в спорах. А ведь вышло не по-вашему, сознайтесь.
«Еще ничего не вышло», — подумал Сверчков, но не сказал.
Тогда Бабин увел его в свой кабинет…
«Вот я и пропустил прекрасный момент, — думал Сверчков, уходя от Бабина. — Этому человеку я мог бы рассказать все. Я убедил бы его предупредить несчастье без крайних мер. Это внутренне жизнерадостный человек, он поймет… Алексей все еще сидит в политотделе. Смотрится, должно быть, в диаграммы, как в зеркало своей части. Вернуться и сказать, — нервничал Сверчков. — Пойти не пойти, пойти не пойти, — гадал он на кожаной бахроме, украшающей эфес шашки. Ремешки спутались. — А, ну его к черту!»
На дворе сидел ординарец и рядом с ним пехотный красноармеец. Ну разумеется, это тот, который привел дезертира и слывет грозой самострелов. Странная фамилия — Брага.
Брага глубоко опустился на корточки, как не удается сесть человеку в городском костюме. Дымя так, что кругом пахло горелой бумагой, он сохранял позу глубокого ко всему безразличия, но большие черные глаза его вращались вслед всякому замеченному движению. Казалось, ими управляет механизм, ничего общего не имеющий с его телом.
«Какая-то ожившая каменная баба», — подумал Сверчков и с громкой нарочитой ласковостью спросил:
— Ну, как ваш дезертир, отличился?
— Ирой! — независимо улыбнулись глаза.
Он был положительно любопытен, этот тяжелый человек, в котором угнездилось какое-то свое отношение ко всему.
Философский стих легко находил на Сверчкова.
— А вы вот… неужели вы ничего не боитесь?
Это был добрый, испытанный еще на германском фронте вопрос. В нем была какая-то трогательная доверительность, и в то же время он на момент проникал в чужую душу.
Глаза Браги, как по лестничке, поднялись по обшитым зелеными тряпочками пуговицам сверчковской шинели и жестко остановились на лице инструктора.
— А ты почто спрашиваешь? Сам, должно быть, боишься?
«Вот уже и на „ты“», — подумал Сверчков.
— Я смерти боюсь, ничего не поделаешь… А вот вы как?
«Вы» получилось с большой буквы.
— И слепой смерти боится…
— Значит, и вы боитесь?
— Зачем я тебе буду говорить? Говори сам…
Следовало либо повернуться и уйти от этого колкого, как только что купленная щетка, человека, либо одержать над ним какую-то моральную победу.
— Ты из какой деревни, Брага?
Это создавало необходимую паузу.
— А я и сам не знаю. Где работа — там и дом. Батраком я с малолетства. На сахарном заводе работал.
— Значит, на Украине.
— На Киевщине. У помещика перед войной работал. Говорили — после царя самый богатый. Восемнадцать имениев у него. А жена — княгиня. Ну и порядок же был. Волы по шестьдесят пудов, кабан один на ферме — как бугай. До самой революции богатство было.
— А потом?
— Потом жгли много. Скот разобрали.
— И ты жег?
— И я жег.
— А порядок?
— А то чужое было. Хрестьянского не жгли…
— Значит, не верили, что все крестьянам будет?
— Не верили.
— А теперь?
Взор красноармейца прямыми, горячими лучиками ощупывал Сверчкова. Ординарец Форсунов, молча тянувший махорку, растоптал окурок и заявил:
— А теперь мы с вами его не пустим, товарищ инструктор.
Сверчкову оставалось разразиться бодрой фразой, у которой подкладкой была холодноватая, липкая, как шелк, неуверенность.
— А куда же вы пойдете после войны, Брага, — сделал он последнюю попытку, — в деревню или на завод?
— Нет, — твердо сказал красноармеец. — Я на сверхсрочную останусь.
Это был самый неожиданный из всех возможных ответов.
Брага поднялся, забросил на плечо винтовку и взял в руки все тот же посох — изрезанную терпеливым ножом липовую ветвь. Полупастух, полувоин, полуграмотный, но усвоивший соль марксизма, жесткий, как революция, и, как она, самоотверженный храбрец, он прошел перед Сверчковым апокрифическим видением, движущимся силуэтом, утратившим третье измерение, потому что у Сверчкова не было никакого ключа к его душе, одновременно слишком простой и слишком сложной для растерявшегося интеллигента.
Сверчков старался втиснуть красноармейца в знакомый ряд прошлого. Может быть, этот человек умел прежде стоять с непокрытой головой и с непокорными глазами? Может быть, он говорил покорные слова и таил непокорные мысли? О, каким же солнцем воли и силы должна была опалить его душу революция, как он должен быть предан тем, кто научил его, как нужно расстрелять свое рабство и серость!
Соседство крепких и цельных людей всегда угнетало Сверчкова. Он готов был наделить их свойствами хорошо или плохо скрываемой неустойчивости. Он с удовлетворением ловил в других признаки прорвавшейся наружу слабости, а факты непоколебимого мужества объяснял стечением обстоятельств или состоянием кратковременного аффекта.
Но если чувство угнетенности все же оставалось, он и его готов был обратить в пользу себе. Не означало ли оно, что его непреодолимо тянет к силе, к подвигу, что он тоскует по утраченной цельности. Его раздвоенность — это временное заболевание, а не природный недостаток… И повинно в этом больное время, эпоха…
Алексей поднимался и опускался в седле с той несколько преувеличенной задержкой, какую всадники без хорошей школы считают шиком в верховой езде. Но происходило это вовсе не из желания рисоваться. Он был взволнован и старался скрыть эту взволнованность. В политотделе ему рассказали об измене командиров легкой батареи, действовавшей под Верро по соседству. Три бывших офицера застрелили комиссара и нескольких коммунистов, захватили казенные суммы и с несколькими красноармейцами ушли к белым.
Сверчков слушал этот рассказ как притчу, как хитрый и ядовитый намек, как показания уличающего, но не назвавшего имена свидетеля. Казалось, комиссар, знающий все самое тайное лучше самого Сверчкова, делает ему последнее предупреждение. Так вот что бывает в результате таких заговоров?! Кровь, предательство, преступление! Он чувствовал, как на ветру и от волнения мучительно сохнут губы. Алексей говорил обо всем не с тревогой, но с силой и злобой. Казалось, что скачет к своей части не предупрежденный политотделом об осторожности комиссар, но готовый приступить к выполнению своего долга мститель.
Когда оступается его любимая кобыла Чаща, он рвет поводья, и она подолгу идет, играя ногами, с задранной к небу мордой. Она не узнает сильную, но обычно спокойную руку хозяина. Рассказать ему сейчас о том, что слышал Сверчков в овине, нечего было и думать. Он взорвал бы всю батарею. Может быть, все это еще один только дым, словоизвержение, а он устроит дело, трибунал… Притом, в какую позицию будет поставлен он сам перед своею совестью?!
Подъезжая к батарейному обозу, Сверчков решительно остановился на мысли, что письмом к Вере он ровно ничего не достиг и теперь единственный достойный исход для него — это откровенно поговорить с Синьковым, убедить его в бессмысленности перехода — именно в бессмысленности! — и затем заставить отказаться от всяких рискованных шагов. Вся страна неуклонно переваливает на сторону большевиков. Тысячи офицеров искренне и стойко дерутся в рядах красных. Теперь уже ясно, что большевики не за анархию, но за государственность и порядок, против всех и всяких интервентов, за родину, свободную и сильную. И никто, кроме них, не в силах установить порядок, равно как никто не в силах создать армию и уберечь страну от раздела между великодержавными соседями. Он выложит перед Синьковым все эти мысли. Сознание, что тайна — уже не тайна, укрепит их убеждающую силу. И уж тогда во всяком случае Сверчков будет чист, как горная струя, даже если бы ему пришлось принять решительные меры, вплоть до разговора с Бабиным. Такое предупреждение может быть продиктовано только прямотой и великодушием.