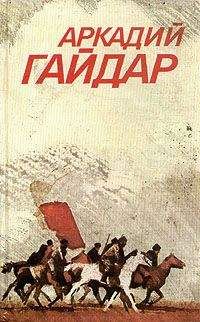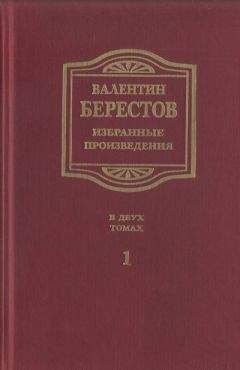Юрий Нагибин - Поездка на острова. Повести и рассказы
Долгая косая волна, гулко ударившись о скалу, раскатилась по отмели, оставляя пышные шапки пены; в одном из этих пенных холмиков ворочалась большая серебристая рыбина. Но когда волны со змеиным шипением отползли назад, на мокром песке осталась не рыба, не чудо морское с зеленым хвостом, а дивной красоты женское тело. Пузырьки пены лопались на алебастровой коже. Пришелица из морских глубин очнулась от забытья, медленно огладила себя ладонями, сняла с бедра темную водоросль и легко, уверенно стала на ноги, уже зная, что она богиня, и мир откликнулся ей общим любовным вздрогом, в нем возникло новое натяжение, сменившее прежнюю безлюбую дряблость, а из-за дальней горы в слепящем великолепии поднялось солнце — Афродиту приветствовал ее светозарный брат Аполлон. И богиня пошла ему навстречу.
— Мне ванильного, — сказала Афродита.
Считается, что боги не стареют, пребывают в постоянном возрасте. Наверное, это так, когда вечная юность заложена в самом существе бога: солнечный Аполлон, охотница-девственница Артемида, быстрый на ногу Гермес — связной Зевса, но ведь всем знаком облик ребенка Диониса на руках Силена, а в какого могучего, дивного мужа вымахал он в пору Тесеевой авантюры, явившись на пустынный берег Наксоса за брошенной героем Ариадной. И думается, седые нити прошили бороду козлоногого Пана, когда его свирель была побеждена кифарой Аполлона, и он удалился, опечаленный, в гущу лесов. Афродита Милосская ближе всего к образу юной девушки, вынесенной волной на кипрский берег, в Афродите Книдской, изваянной Праксителем, торжествует пышный женский расцвет, а в Пафосской Афродите — зрелость материнства; она уже дала жизнь Эроту, вспоила его своим молоком, вырастила трудного ребенка; чуть ослабли мышцы живота, мясисты все еще прекрасные бедра, корпус тяготеет к наклону опекающей нежности. Так вот, ванильную сладость в вафельном стаканчике приняла из волосатых рук мороженщика Афродита, благостно огрузневшая, беспокойная мать, сварливая свекровь Психеи, отнявшей у нее славу первой красавицы Олимпа, Афродита того города, куда мы сейчас едем, чтобы принять участие в торжественном вечере, посвященном шестьдесят седьмой годовщине Великой Октябрьской революции.
Мы с женой гостили на Кипре у наших старых друзей Элли и Паноса Пеонидисов. Панос — член ЦК АКЭЛ (эта партия возникла в 1941 году на основе коммунистической партии) — делал праздничный доклад на вечере. Со временем стираются все слова, высокие — раньше других, ведь изначально они задевают сильнее обыденных и потому быстрее срабатываются. Но совсем иначе звучали привычные речи в огромном гулком зале, служащем для концертов, театральных представлений и народных сборищ. На острове, чья судьба так мучительна, обрели первозданную свежесть старые созвучья. Все, что говорил Панос о далекой северной стране, свершившей пролетарскую революцию, оборачивалось болью за собственную, безмерно любимую страну, растерзанную, униженную, постоянно помнящую о своем расчлененном теле.
Пылающее лицо Паноса на трибуне связывается в памяти с милыми, доверчивыми и какими-то всполошенными глазами его дочери Мелины, смотревшей по телевизору праздничный парад наших войск на Красной площади. Шестнадцатилетняя Мелина — создание радостное и глубокое. Она всегда занята, ее существование не терпит незаполненных минут, и в каждое дело она вкладывает себя целиком: будь это школьные уроки, домашнее хозяйство, чтение, отплясывание в дискотеках или ежедневные часы Шопена — музыка ее страсть. И эта музыкальная, ласковая девочка воскликнула, сжав кулачки:
— Боже, какие вы счастливые, что у вас такая армия!
То был голос юного, бесхитростного и тяжело обиженного сердца. Девочке вспомнились черные дни 1974 года, когда лилась кровь ее соотчичей, когда двести тысяч исконных обитателей Кипра, изгнанные с насиженных мест, из своих жилищ, со своих полей и виноградников, разутые, раздетые, брели под палящим солнцем на юг и прозвучало горькое слово «беженец», когда над Фамагустой взвился турецкий флаг, когда кончилось что-то хорошее и чистое, а дурное, злое, несправедливое бесстыдно обнажилось. Вот о чем думала Мелина, глядя на шагающие по Красной площади войска. И захлебнулась душа: как прекрасно быть защищенным против зла, против гарпий-трупоедов, высматривающих красными глазами слабые места на мировом теле!
Мы привыкли к мощи и оснащенности нашей армии, мы не смотрим на нее со стороны, как на нечто, находящееся вне нас, ведь все мы так или иначе проходим через армейскую службу. Мы носили доспех в свой час, сейчас настала очередь этих юношей, шагающих через Красную площадь, — ну и что тут такого? О, как много!.. Юная киприотка своим наивным восклицанием расколдовала привычность…
Я собирался рассказать об Элли и Паносе, а говорю о мифах, базах, турецкой агрессии, митинге, посвященном Октябрю, девочке, зачарованной шествием народной армии по Красной площади. Но об этих людях нельзя говорить иначе: мифы и жестокая реальность, перед которой не потупляешь глаз, движение мировой жизни, несущее тревогу и надежду, — все проходит через их распахнутые души. Эти люди — плоть от плоти, кровь от крови своего народа, чья историческая судьба требует много мужества, терпения, стойкости, планомерного упрямого труда, бодрости и хороших песен.
Искусство, поэзия, вся культура Кипра, не утрачивающая в близости к греческой своей самобытности, неотторжимы от его мученической судьбы. А судьба эта заложена в слишком соблазнительном географическом положении: Кипр словно нацелен на Ближний Восток. Он издавна привлекал завоевателей и в пору крестовых походов был захвачен рыцарями — освободителями гроба господня (Ричард Львиное Сердце пышно сыграл здесь свою свадьбу); в военно-морской стратегии англичан на Средиземном море Кипр был самой большой канонеркой. Поэтому и не ушли они с острова, получившего статут свободного и независимого государства. Позже американцы последовали их примеру, развернув на отторгнутой турками территории базу быстрого реагирования.
Другая историческая трагедия Кипра: на маленьком островном пространстве должны уживаться два народа, различные во всем — в религии, обычаях, нравах, истории, языках, и традиционно враждебные один другому. И все же сосуществование удавалось — древняя культура Эллады, врожденное миролюбие и терпимость исконных обитателей Кипра: пахарей и виноградарей — помогали улаживать и снимать противоречия, гасить запальчивость нетерпящих соседей. И в этом брезжила возможность прочной государственности на федеративной основе, которая уже начала не без успеха осуществляться. Но когда по взмаху дирижерской палочки натовских стратегов вспыхнул мятеж (пора было привязать неприсоединившийся Кипр к атлантическому блоку), и в Никозии расстреляли президентский дворец, и столичная радиостанция, захваченная путчистами, захлебывалась восторгом: «Макариос мертв!.. Макариос мертв!..», и националист-ножебой Сампсон возглавил правительство мятежников, Турция направила на Кипр сорокатысячный экспедиционный корпус «для защиты турецкого населения», и Кипр раскололся на две части.
В ту пору Паносу Пеонидису было под пятьдесят. За плечами — большая и сложная жизнь. Он родился в семье школьного учителя, человека религиозного, крайне строгих правил, неизменного члена церковного совета. Верить и выполнять церковные обряды — дело совести человека, но отец Паноса сделал из веры как бы вторую профессию, создававшую в семье атмосферу духоты и нетерпимости. Мелочная и недобрая вера отца очень рано отвратила Паноса, живого и любознательного мальчика, от небес и посеяла в душе первые семена бунта. Он и сам считает, что его жизненный путь определился в детстве — сопротивлением двойному гнету: отцовскому и религиозному. Он рос, учился, много читал, в свой срок пришли к нему мифы Греции, боги и герои, эпос и трагедия, все неизмеримое наследство эллинского мира: в историческое чувство властно вторгалась современность, он и сам не заметил, как из чистого мира природы и памяти переселился в сложный и неопрятный социальный мир. Ступив в юность, он понял, что куда страшнее домашней и церковной давильни колониальный гнет. Море одарило Кипр Афродитой и любовью, море принесло англичан и ненависть. Не в холодном рассудке, а в горячей крови зародилась первая идея: родина должна стать независимой.
Когда началась вторая мировая война, Панос пошел добровольцем в армию, которая считалась английской: она была вооружена английским оружием, оснащена английской техникой, ею командовали надменные английские офицеры, но пушечное мясо, упакованное в английскую форму, было греческим. Панос пошел на войну не для того, чтобы защищать британскую империю, — паук свастики был куда страшнее для народов, чем одряхлевший английский лев, и, подобно большинству своих соотечественников, Панос не сомневался, что война принесет свободу его родине.