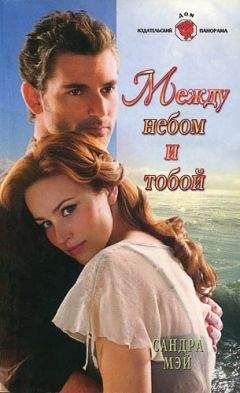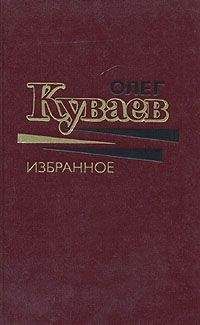Ион Друцэ - Избранное. Том 1. Повести. Рассказы
После долгого молчания Рихтер сказал, как бы думая вслух:
— Странный у вас сын, Елизавета Ивановна…
Графиня вспыхнула, и на ее старческих щеках стало розоветь что-то в виде румянца.
— Боюсь, что вы меня не так поняли, Оттон Борисович… Я ведь не собиралась жаловаться вам на своего сына…
Генерал улыбнулся:
— Да и вы мои мысли не совсем угадали… Я не то что осуждать, а хвалить собирался… У нас в России редко кто увлекается надолго, особенно таким эфемерным товаром, каким являются идеи, и вот, поди же ты, ему скоро пятьдесят, и половину своих лет он служит идеям, которых как-то и не уловишь сразу…
— А хвалить его тоже не за что, — сказала графиня сухо. — И если бы у меня было двое сыновей, вряд ли бы я подошла к вам сегодня. Но он у меня один.
— И чем я могу быть вам полезен?
Графиня встала, вышла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с запечатанным сургучом пакетом.
— Будьте другом, Оттон Борисович. Сделайте так, чтобы это прошение попало на стол к императору в тот день, когда самые сложные и обреченные дела имеют хоть какой-нибудь шанс на благоприятный исход…
Она не передала конверт генералу, а положила на стол, так что Рихтер должен был протянуть руку и сам взять конверт, если он сочтет это возможным. Старому генералу эта щепетильность понравилась. Его рука поползла по белому мрамору столика, но замерла, едва пальцы коснулись бумаги.
— Елизавета Ивановна… Прошлый раз, когда мы с вами подавали императору прошение о разрешении Владимиру Григорьевичу вернуться из Англии, чтобы проститься с умирающим Толстым…
— Тогда нам отказали, я помню.
— Дело не в том, что отказали. Само появление этой бумаги на столе императора вызвало невероятный приступ гнева его величества.
Графиня пересела на другой стул, поближе к Рихтеру. Долго думала над чем-то и вдруг спросила тихо, интимно:
— Скажи, Оттон, ты сильно боишься высочайшего гнева?
Генерал молодцевато выпрямился и улыбнулся.
— Не больше, чем это нужно для того, чтобы в империи царили мир и порядок.
Взял конверт, раскланялся и вышел.
Хотя было начало нового века, Россия все еще жила остатками славного девятнадцатого, при котором никто особенно не торопился и каждому непременно нужно было добираться до сути, до главного вопроса бытия. Очаровательный уголок природы в средней полосе России, Ясная Поляна тоже жила ритмами, проблемами, атмосферой ушедшего века. И может, потому гости здесь заживались подолгу, часто особо интересные споры переносились на следующий день, и не было ничего удивительного в том, что вот еще утро и тот же нищий Фаддей стоит под Деревом бедных у входа в яснополянский дом. Мимо него бегают дворовые, кухарки, конюхи, а он сидит, сонно зевает и изредка, не оборачиваясь, дергает висящую за его спиной веревку. Один из дворовых, пробегавших мимо, огрызнулся:
— Ты чего, Фаддей, чуть свет трезвонишь?
— Барина твоего давно не видамши.
— Соскучился, что ли?
— А то!
Поднимаясь в столовую, Лев Николаевич услышал звон. Подошел к окну, увидел знакомую могучую спину в лохмотьях. В столовой, едва поздоровавшись, попросил ожидавшего его секретаря:
— Валентин Федорович, голубчик, но можете ли вы мне одолжить рубль мелочью?
— Ради бога… А зачем вам деньги в такую рань?
— Так ведь звонят, все утро прозвонили.
— Ну нашли о чем печалиться! Этот самый Фаддей из Неменки на редкость бесстыж и бессовестен. Чуть ли не каждый день будит нас. Что же вы, так каждый день и будете подавать ему?
Лев Николаевич сказал шепотом:
— Этого Фаддея и опасаюсь. Он очень злой и рассказывает про меня разные гадости.
— Ну и пускай его!
— Да нет, все-таки мне это неприятно…
Получив мелочь у секретаря, Лев Николаевич внимательно ее сосчитал, распределил разными долями по карманам, после чего сел за приготовленный ему прибор. Есть не хотелось — все оглядывался и соображал что-то.
— Вы не очень хорошо выглядите. Плохо спали, Лев Николаевич?
— Где уж в мои годы свежим выглядеть по утрам!.. В мои годы, если во сне сделается складка на лбу, так полдня с той складкой и проходишь…
И все оглядывался, точно попал в чужую комнату. Что-то нарушало привычный, годами устоявшийся порядок. Наконец облегченно вздохнул, заметка в углу на маленьком столике граммофон.
— Это что, новая покупка?
— Как же, он у нас именинник! Как только привезли вчера с фабрики, тут народу набилось битком, и до позднего вечера слушали записанные на пластинки ваши беседы о Евангелии.
Лев Николаевич долго и мучительно припоминал вчерашний вечер. Сказал встревоженному Булгакову:
— Пусть это вас не беспокоит, у меня часто бывают такие провалы памяти… А скажите, кроме моих старческих дребезжаний, ничего не исполнялось?
— Было еще два цыганских романса.
Лев Николаевич засиял.
— Ну конечно, как я мог забыть! У меня даже возникла какая-то мысль относительно цыганского пения — не то записал, не то собирался только записать.
Вошла молодая девушка с завтраком. Лев Николаевич. спросил удивленно:
— Почему только один прибор? Разве Валентин Федорович не будет завтракать со мной?
— Благодарю вас, Лев Николаевич. Я свой кофий давно уже выпил.
— Вот и вы отказываетесь… За всю жизнь я так и не смог найти охотников до овсяной каши. Завтракаю один. Она и вправду безвкусна, мне самому надоело ее есть, да ведь я не в том возрасте, когда человек может себе позволить менять привычки…
Заправляет салфетку за воротник, начинает завтракать, и в том, как он сидит и как обращается с приборами, на миг проглядывает сиятельный граф, сохранивший на всю жизнь основы хорошего воспитания.
— Валентин Федорович, вы можете пересесть подальше. Я ведь хорошо помню, что мне неприятно было смотреть, как беззубые старики чавкают за столом, Я думаю, и на меня смотреть тоже не очень большое удовольствие.
— Ну что вы, Лев Николаевич… До тех стариков, о которых вы говорите, вам еще далеко.
— Спасибо, голубчик.
Вошла Софья Андреевна. Подошла, поцеловала мужа в темя.
— Доброе утро, Левочка.
— Благодарю тебя, мой друг. Доброе утро.
— Тебе нездоровится?
— Да нет, я как будто нынче ничего.
— У тебя опять странные глаза. Не было ночью припадка?
— Не помню. Кажется, припадка в полном смысле слова…
Софья Андреевна всплеснула руками.
— О господи, но почему ты меня не разбудил! Ты же не можешь обходиться без моей помощи. Особенно после припадка, я знаю, как тебе бывает трудно…
Лев Николаевич долго и аккуратно подбирал ложечкой остатки овсяной каши, думая при этом: «Интимная жизнь остается неповторимой до тех пор, пока она окутана тайной. У каждого человека должен быть свой врожденный стыд, и это прекрасно, что он закрывает одеждой все то, что не нужно, и оставляет открытым только то, в чем выражается духовное, то есть лицо. У меня всегда было это чувство стыда, и, например, вид женщины с оголенной грудью мне всегда был отвратителен, даже в дни молодости. Тогда, правда, к этому примешивались и другие чувства, но все-таки было стыдно».
Вслух он сказал кротко:
— Давай сегодня проживем в мире, Сонечка.
Софью Андреевну задело то, что он подумал одно, но сказал другое, и она уронила сухо:
— Хорошо. Мне уйти?
— Нет, зачем же. Я очень рад тебя видеть. Кстати, вчера под вечер тебе была телеграмма. Ты видела ее?
— Да. Это от вдовы Маркса. Она обещает начать новое собрание сочинений в самое ближайшее время…
Лев Николаевич долго размешивал кофе.
— Сонечка, если ты помнишь, я тебя просил подсчитать все и найти возможность удешевить мои собрания сочинений. Все-таки они слишком дорого стоят, и простому человеку может быть не по карману приобрести мои книги.
Софья Андреевна усмехнулась:
— Кажется, ты все еще носишься с заманчивой идеей пустить всех нас по миру?
— Сонечка, ну зачем такие крайности!.. Я издаю «Круг чтения» по самым низким ценам, я собираюсь достичь того, чтобы эти книги вообще бесплатно издавались, а цены на собрания сочинений растут с каждым годом… Мое имя не может одновременно печататься и на самых дешевых, и на самых дорогих книгах!
Софья Андреевна взорвалась:
— Я сейчас принесу расчеты, я покажу тебе бухгалтерские книги, я призову в свидетели бога, что ни копейкой дешевле не могу издавать твои сочинения. И вообще нам нужно поговорить в кругу семьи. Слишком мною всего накопилось.
— Ну хорошо. Успокойся, Сонечка.
Как только Софья Андреевна заговорила о делах, в дверях показался один из младших сыновей Толстых — Андрей Львович.
— Доброе утро.
Софья Андреевна поцеловала его в лоб, а Лев Николаевич едва кивнул. Андрей Львович, чтобы не терять нити спора, спросил: