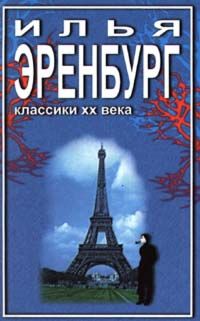Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней
А Жанна продолжала повторять свои безнадежные мольбы. И Халыбьев наконец решился. Это было столь же драматической минутой, как и тогда у телефона, когда, услышав нелепый выговор мистера Джекса, он бросил трубку. Игрок ставил все на номер. Стараясь придать своему голосу должное спокойствие, он прошептал:
— Даром, красотка, на свете ничего не делается. Я поеду с вами в Париж. Я выручу вашего кавалера. Но за это нужно меня немножко любить. Нужно со мной остаться до завтрашнего утра. Вы же понимаете меня, моя прелесть?..
Жанна Ней любила Андрея. Этим сказано все. Жанна любила его всегда. Любила, когда увидела в кабинете труп отца. Любила, узнав об Аглае. Любила в комнате отеля на улице Одесса. Любила всегда, в радости, в горе, любила всего и вся, любила, как только может любить человек человека. Это не было ни борьбой за счастье, ни игрой, ни героизмом. Это было только любовью, то есть самым простым, самым бестолковым, самым большим, что только и есть в нашей жизни. Скажите же, зачем писать столько стихов, зачем зажигать огни рампы и накладывать грим, зачем ходить в затхлые церкви, зачем повторять слова о добре, о подвиге, о правде, если есть вот на свете эта ванная комната в пансионе госпожи Лопке, если на изразцовом полу ее лежит маленькая слабая женщина, если, глядя в упор на Халыбьева, на его синие белки, на цепкие руки, она спокойно отвечает:
— Хорошо. Но завтра мы поедем с первым поездом.
У Жанны была одна только мысль: это на двенадцать часов позже. Поезд в девять утра. Но что же делать? Она понимала, что Халыбьев иначе не согласится. Тогда нужно утром до отъезда послать телеграмму. О себе она вовсе не думала. Ведь с той минуты, когда Жанна возле киоска прочла одну газетную строчку, она перестала себя ощущать. Телеграмма идет часа два, не больше. Машинально она подчинилась словам Халыбьева, встала, прошла в его комнату, села на диван. Она ничего не чувствовала.
Зато самые пылкие, самые неистовые чувства одолевали Халыбьева. Ему хотелось сейчас же кинуться на брюнеточку, целовать, целовать кусая, чтобы было больно, придавить, задушить, показать, что значит его халыбьевская мания. Но он сдерживался. Этому трусливому, азартному, почти истерическому человеку была, однако, присуща возможность порой изумительно владеть собой. Стоит только вспомнить добродетельный ужин в ресторане «Лавеню». Халыбьев сдержался. Он мог швыряться канадскими долларами, но он жалел голландские гульдены. Марго или Эмма, даже m-lle Фиоль — все это было дешевкой. Этого не стоило беречь. Но сколько же горьких минут ему стоила брюнеточка. Надо суметь как следует вознаградить себя. Надо сделать так, чтобы это не вышло похожим на обыкновенные ночи с девочками. Надо создать оперу, парадиз, настоящую мечту.
Халыбьев от волнения, от растущей страсти метался по большой комнате, куря папиросу за папиросой, выбрасывая во все стороны свои руки. Он как будто не обращал внимания на Жанну. И Жанна сидела. Жанна ждала прикосновения его рук, как ждет больной ножа оператора, нет, как ждал Андрей чего-то непонятного и тупого, от чего еще в вагоне болела его шея.
Наконец Халыбьев остановился. Он подошел к Жанне. Но нет, он не схватил ее, не начал душить или покрывать слюной, которой был полон его большой рот. Он даже с известной мягкостью произнес:
— Знаете что, Жаннет… Вы уж мне позвольте звать вас так. А то Жанна — это звучит дешево, это вроде как у нас Иван. Жаннет — это совсем другое дело. Даже духи такие есть. Первый сорт. Так вот, знаете что, Жаннет, давайте-ка с вами по-семейному чай пить. С домашним печеньем. А потом тихонько и спать ляжем. То есть как после свадьбы.
Жанне это показалось таким чудовищным, что, даже будучи ко всему готовой, она все же задрожала. Если б Халыбьев ее ругал, бил, насиловал, это было бы понятней и, следовательно, легче. Но такого глумления она не ожидала.
Халыбьев же, довольный своей идеей, направился к госпоже Лопке. Вскоре они вернулись вместе. Госпожа Лопке накрыла стол, принесла чайник, бутылку рома, имбирное печенье, даже вазончик с анютиными глазками. Это была уже немолодая, весьма почтенная особа, у которой, благодаря странному корсету, имелись два бюста, один спереди, а другой сзади, оба равно пышных. Когда госпожа Лопке волновалась, два бюста угрожающе тряслись. В свой пансион госпожа Лопке допускала исключительно одиноких мужчин, главным образом иностранцев, желавших жить хоть и свободно, но с семейным уютом. Жильцам разрешалось приводить на ночь дам, но благонравных. Поцелуи — это дело тихое, это никому не мешает. Все эти дамочки, ночевавшие сегодня с бразильским атташе, а завтра с японским студентом, хорошо знали почтенную хозяйку и ее слабости. Желая сохранить с ней добрые отношения, они приносили госпоже Лопке тонкие шелковые чулки. Дело в том, что, несмотря на почтенность, госпожа Лопке обожала дорогие чулки и часами могла любоваться своими ногами, похожими на огромные тумбы в Аллее Победы и просвечивающими сквозь шелковую паутину. Зато госпожа Лопке была удобной хозяйкой. Вот и сейчас она вполне благосклонно взглянула на новую кошечку русского. Она приготовила постель, принесла две подушки, взбила перины. Оглядев заботливым оком нежно белевшее супружеское ложе, она сказала Жанне:
— Это чтобы вам было мягче спать, моя кошечка.
Халыбьев налил чай через ситечко и приступил к душевной беседе:
— Вы меня поймите, Жаннет, я ведь несчастный человек. У других золотое детство было. А у меня? Щенком я рос. «Никетка!» и «Никетка!». Да еще — по уху. Никакого сочувствия. Так и потом. Всю жизнь. В коммерцию ударился. А если правду сказать, Господь меня совсем для другого создал. Как жертвенник, душа моя горит. Вы вот тоже думаете — Халыбьев облапит. Нет, он привета хочет. Он ласки ждет. Я не скрою — целовать вас я даже очень хочу. Но не в этом проблема. Что мне трудно, что ли, любимую мадам заполучить? Это вопрос, так сказать, валютный. Как доллар вверх, так отбоя от них нет. Да сколько вот на этой кровати примадонн перебывало. Другие сидят в театре, слушают, нюни разводят, а я-то знаю, из чего это все сделано. Я ей, может быть, кнопочки расстегиваю. Но разве в этом проблема? У меня ведь в сердце алтарь готов. Я на вас, как на Рафаэля, смотрю. Я восторгов жду. Вот мы сидим с вами вроде как жених и невеста. Чай пьем. Цветы на столе. Вы мне, может, стихи почитаете: «По небу полуночи ангел летел». Господи, ведь брюнеточка вы моя!.. Сбылись мои грезы…
Жанна молчала. Это начинало сердить Халыбьева. Это расстраивало все его проекты. Он ведь хотел создать атмосферу, а она сидит, как истукан. Не говорит ничего. Не улыбается. Где же иллюзии? И, расстраиваясь, Халыбьев стал мало-помалу прибегать к бутылке. В его чашке оказывалось все меньше чая и все больше рома.
Они долго сидели молча. А когда Халыбьев наконец снова заговорил, это был уже не семьянин, не жених, но пьяный Халыбьев, страшный Халыбьев, так напугавший раз Марго из бара «Гаверни».
— Это же жульничество! Очень мне твои штуки нужны! Да я за доллар сколько угодно найду. Я с тобой как уговаривался? Ты меня любить обещала. Люби же! Слышишь, что я тебе говорю: люби меня!
И, больше не сдерживаясь, Халыбьев бросился на Жанну. Он не испытывал никакой радости. Он оскорблял ее грубо, как будто вытряхивая из себя все, что в нем было темного и страшного. Он ей мстил, мстил за все свои унижения, за весь страх, за ту ночь, за бегство по бульвару Эдгар-Кине, за Шиши. Он издевался над ней. Он прерывал рык и сопение возгласами:
— Это тебе не Андрюшка! Это я, Халыбьев!..
Тихо было в почтенном пансионе госпожи Лопке. И разве мог кто-нибудь подумать, что в одной из комнат, где горит розовый фонарь, где стоят на столе анютины глазки, пытают человека самыми страшными пытками? А Жанна молчала. Жанна должна быть сильной. Это все для Андрея. Нет, сейчас она предает Андрея. Она могла переносить какие угодно мучения, но для этого ей нужно было все время думать об Андрее. Теперь же она не могла о нем думать. Мысль об Андрее ей казалась оскорбительной. Она должна забыть об Андрее. Это-то и было самой жестокой пыткой.
А Халыбьев не унимался. Его руки, руки с плаката, душили, давили, кромсали Жанну. Кто знает, сколько в одной ночи часов! Сколько у человека сил!
Потом наступила пауза. Халыбьев лежал на спине и отрывисто, тяжело вздыхал. Прильнув к уху Жанны, он быстро зашептал:
— Скажи мне: «Только тебя, Никеточку, и люблю я на всем свете!» Скажи, а не то я в Париж не поеду.
В комнате стало тихо, очень тихо, как в четвертом корпусе тюрьмы Санте. Точно, четко, раздельно Жанна повторила его слова. Но в ответ раздались ужасные звуки. Это Халыбьев плакал, плакал пьяными слезами.
— Я ведь знаю, что ты врешь. А меня… а меня никто не любит! Несчастный я человек! Умереть мне нужно.
Слезы, впрочем, скоро сменились новым приступом похоти. И опять он глумился. И опять его руки делали свое грубое, низкое дело. И много часов прошло прежде, чем он, обессилев, уснул, все еще шевеля во сне мокрыми пальцами.