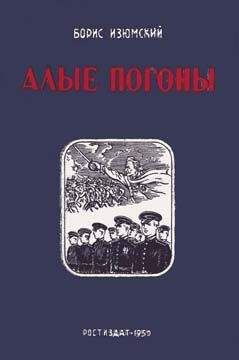Борис Изюмский - Алые погоны
— Много болтаешь о чести, мало делаешь для нее.
— Не тебе учить! — вспылил Садовский. — Я в армии семь лет.
— Положим, Суворовское — это еще не армия, — спокойно возразил Копанев, — а почему бы и не поучить, если ты в самых простых вещах не разбираешься?
Рассуждения Копанева были прерваны шумом и криком.
Справа в кустах кто-то кричал «Ура!»
Все всполошились, схватились за оружие: не «противник» ли вздумал захватить врасплох отдыхающих? Нет, это сквозь тучи прорвались слабые лучи солнца, и Садовский, увидевший их, закричал:
— Солнцу — ура-а!
На него даже не рассердились, действительно увидеть здесь солнце — событие немаловажное. Двинулись дальше.
К вечеру, выслав вперед дозоры, майор Демин приказал командирам взводов организовать в лесу ночевку.
— Можно разводить костры, — разрешил он.
И вот у каждого взвода загорелся костер, затрещали иглы хвои и березовая кора, пахнуло теплом.
— И сыр-бор загорелся! — поворачиваясь перед огнем то одним, то другим боком так, что пар валил от его шинели, говорил Павлик.
Володя лежал лицом вверх, с открытыми глазами. Рядом с ним, согревая своим телом, прикорнул Садовский. Володя устал, но спать ему почему-то не хотелось.
«Сколько еще в жизни будет походов и ночевок под открытым небом», — думал он.
Садовский пошевелился и, что-то пробормотав во сне, еще плотнее привалился к Володе.
«Что мне мешает сейчас идти вперед, стать со временем образцовым офицером, коммунистом? — продолжал размышлять Володя. — Вероятно, вспыльчивость, нетерпеливость, резкость. Ну, какой я сейчас воспитатель? Крикун-одиночка… Конечно, не надо давать в обиду свое самолюбие, но и не быть мелочно-самолюбивым, не идти на поводу у самолюбия».
Менялось охранение, перекликались часовые, с негромким хрустом ломали ветки дежурные у костра. Где-то далеко взвилась и погасла ракета, раздались выстрелы: один, другой, потом пулеметная очередь.
Володя закрыл глаза и уснул.
В полночь рота была поднята, чтобы занять исходные позиции. Начали рыть окопы. В землю вгрызались ожесточенно, все глубже, словно состязались в этом.
Старшина Булатов подошел к Пашкову. Геннадий стоял по грудь в окопе.
— Хорошо работаете, не то, что за «Плоской», — заметил Булатов.
— Там опасность фанерная была, силы экономил, — неудачно сострил Пашков и, сам почувствовав это, извиняющимся тоном сказал: — Труда, товарищ старшина, никто не боится!
Пулеметчики расположились в окопе. Анатолий Копанев чуткими пальцами проверял оружие — все ли в порядке? Как назло что-то «заело».
К нему подполз Ковалев и, узнав о неисправности, показал, как ее удалить.
— Вот олух царя небесного, — обругал себя Анатолий, — мог бы и сам догадаться!
— Ничего, теперь все будет в порядке, — подбодрил его Ковалев и пополз дальше.
Садовский, напряженно всматривавшийся в темноту, вдруг с криком: «Противник!» — выскочил из окопа и бросился вперед.
Послышался какой-то шум, словно боролись два человека, и затем появился Олег, чуть ли не волоком таща упиравшегося курсанта.
Как выяснилось, это был заблудившийся радист «неприятельского» батальона.
На допросе радист хитрил, отмалчивался, путал, но все же проговорился, что впереди есть ров с водой, не преодолимый для танков. Это значительно осложняло дело. Осматривая захваченную вместе с пленным радиостанцию, майор Демин заметил число 42 и, настроившись на эту волну, вдруг услышал знакомый голос командира «синих»: — «Почему молчит?»
Лукавая улыбка пробежала по губам Демина.
— Василь Палч, — сказал он, — твой радист заблудился, пришел ко мне чай пить. Это Демин говорит. Будь здоров!
Однако надо было позаботиться о переправах. Майор Демин отдал приказания командирам взводов. Они разыскали мост для переправы танков и минометчиков, а для пехоты курсанты соорудили из поплавков мостки через ров.
Было еще совсем темно, когда с угрожающим лязгом в атаку двинулись танки. То камнем падая, то стремительно поднимаясь, стрелки побежали ко рву. Но где же мостки? Первым обнаружил беду старшина Булатов. Поплавки прибило к противоположному берегу. Недолго думая, Булатов в полном снаряжении бросился в воду и поплыл. За ним ринулось еще несколько десятков. Выкарабкавшись на берег, в одежде, прилипшей к телу, часть курсантов неудержимым потоком покатилась вслед за танками, другая же стала подгонять к берегу поплавки.
Тяжело дыша, Пашков бежал рядом с Копаневым. При каждом шаге из сапог Геннадия фонтанчиками брызгала вода, смешанная с грязью. Но, забыв обо всем на свете, кроме того, что надо уничтожить «противника», он бежал, стараясь ни за что не отстать от Анатолия Копанева.
Вот они оставили позади минометные огневые позиции и ворвались в поселок «Новый».
ГЛАВА X
Боканов сидел в комнате ротного командира и задумчиво пересматривал письма выпускников. Писали ему довольно часто, и не только из Ленинграда. Это были письма-откровения, письма-характеры. Андрей присылал крохотные рисунки карандашом: «Курсанты на аэродроме», «Суворовский перепляс»; Савва — отчеты о спортивных достижениях; Семен мечтал снова посидеть за партой в своем классе, а Володя просил совета, как ему обуздать какого-то курсанта Садовского, и признавался: «Когда у меня начинают „плавиться подшипники“, как изволит выражаться Сема, я хватаюсь за ваши послания, и тогда аварии случаются реже».
И в каждом из этих писем, как ни разнились они по содержанию, неизменно присутствовала объединяющая их, хотя и невысказанная, мысль: «Верьте, что мы не запятнаем суворовской чести».
Что ж, пожалуй, от такого продолжения дружбы они получат не меньше нашего. В близости с нами будут черпать и свои силы.
Первые недели в письмах проскальзывали тоскливые нотки, кое у кого — жалобы на трудные переходы, на требовательность командиров.
Но вот исчезло и это, и зазвучали бодрые слова о том, что «сдюжат», что «закалка, полученная в Суворовском, здесь вызволяет». Они привились на новой почве быстрее, чем можно было предполагать.
Появились даже приписки, адресованные воспитателю, но явно рассчитанные на то, что их прочтут суворовцам: «Очень просим Вас нажимать на физическое воспитание ребят, на спорт. Здесь это особенно потребуется».
Читая такие письма, Боканов думал: «Так создается характер офицера-суворовца. Полученное у нас сольется с тем новым, что придет к ним в военном училище: и самостоятельность, и повзрослевшее чувство долга, и многое другое, что генерал Агашев назвал „дошлифовкой характера“».
Сейчас Боканов представлял их будущее яснее, чем когда бы то ни было, оно словно придвинулось в очень сильном бинокле.
Как воспитатель Боканов делал из писем курсантов и для себя важные выводы. Семен написал: «Не хватает нам исполнительности». И Сергей Павлович решил упражнять в ней своих малышей. То даст задание: «Послезавтра, в большой перерыв, каждый представит мне список книг, прочитанных им в училище», — и строго следит, все ли выполнили это задание. То объявляет: «Буду ставить оценку за несение дежурства». Действует! Привыкают к каждому поручению относиться добросовестно.
Перед Бокановым лежало коллективное послание ленинградцев, адресованное малышам его отделения.
«Дорогие друзья! — писали курсанты. — С радостью принимаем мы ваше предложение переписываться. Обещаем после каждого экзамена присылать вам свои итоги. Надеемся, что и вы будете держать нас в курсе событий. Спросите у Семена Герасимовича, какое решение мы приняли на одном из первых комсомольских собраний. Мы жили и живем дружно. Да и любимая присказка курсантов: „Армейская дружба укрепляет службу“. Помните об этом всегда! Желаем успеха Пете Самарцеву в изучении русского языка, Феде Атамееву — в овладении арифметикой, Алексею Скрипкину, как командиру, — большей требовательности к себе и подчиненным. Берегите честь родного училища!»
«Подписался и Геша», — удовлетворенно отметил Боканов.
Да, Пашков не только подписался, но, подписываясь, думал: «Жаль, не могу признаться Сергею Павловичу, что, кажется, извлек кое-какие уроки из всего, что было». И действительно, за последнее время Геннадий стал гораздо сдержаннее, исполнительнее. Его теперь раздражало, если кто-нибудь бубнил в строю, шел не в ногу, был нерасторопен. Очутившись в атмосфере непреклонных армейских порядков, Пашков, к большой своей радости, понял, что они по сердцу ему. «Сколько можно быть безответственным мальчишкой? — укорял он себя. — Что же мне, уподобляться Садовскому?» Геннадий уже не думал о том, что здесь «тот прав, у кого больше прав». Он решил, что некоторая огрубелость совершенно неизбежна там, где есть солдатский быт, и естественное в Суворовском училище было бы здесь смешно и неуместно.