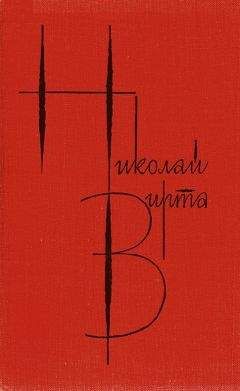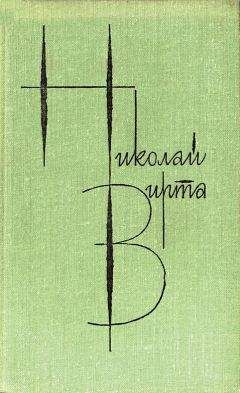Николай Вирта - Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Вечерний звон
От перекрестного допроса Викентия защита отказалась. Прокурор и тут потерпел фиаско: всех сидящих на скамье подсудимых поп охарактеризовал как добродетельных людей, никак не способных к бунту. Вскользь свидетель уколол Улусова, заявив, что если бы не его чрезмерная надменность и корыстолюбие, печального недоразумения не было бы вовсе.
Председательствующий прервал заседание, как только прокурор исчерпал неудачные вопросы.
Едва Викентий вышел из судебного присутствия, в толпе послышались крики: «Провокатор, агент, зубатовец!»
Крикунов изловили и отправили в участок, а смущенный Викентий медленно поплелся по улице.
3В тот день, когда Лужковский должен был выступать с речью, он часа три колесил по городу, останавливался у каждой церкви, разыскивал сторожа, отводил его к пролетке и долго совещался, вынимая при этом часы и наставительно постукивая по ним пальцем.
Извозчик слышал лишь отдаленные слова:
— Вечером… Не прозевай, братец. Помни час… Потом еще получишь! — и прочее непонятное.
— Эти таинственные переговоры кончались тем, что Лужковский совал сторожу трехрублевую ассигнацию, садился в пролетку, многозначительно прикладывал указательный палец к губам, потом им же грозил в сторону кланяющегося сторожа и ехал к другой церкви.
Речь он начал в зале, набитом битком.
Было послеобеденное время, в суд явились все те, кто по занятости на службе не мог присутствовать на утренних заседаниях.
Николай Гаврилович встал, осмотрел публику, перебрал лежащие перед ним листки и начал:
— Господа судьи! Документы прочитаны, свидетели выслушаны, обвинитель сказал свое слово, но жгучий и решающий вопрос не поставлен отчетливо…
В зале — движение, лорнеты, как по команде, вскинуты, председательствующий прикладывает сухую ручку к уху, а Лужковский, сделав паузу, продолжает:
— Между тем вопрос этот рвется наружу. Заткните мои уши, завяжите мне глаза, зажмите мои уста — все равно он пробьется наружу. Он в фактах нами изученного дела, о нем вещают те вчера и позавчера заведенные порядки в одной из послереформенных барских усадеб, где противоестественный союз русского человека с немцем-управляющим обессиливал русского мужика…
Все взгляды направлены на Улусова. Взор земского, в свою очередь, устремлен на председательствующего, словно он ищет защиты. Но председательствующий не обращает внимания на взгляды Улусова, — ему надоело его нагло-трусливое поведение.
— Всякая чуткая душа, — говорил между тем Лужковский, — всякая пробужденная совесть требует от меня, чтобы решающий вопрос не был обойден. И я призываю вас благосклонно выслушать меня.
Судьи кивают головами, как бы выражая свое согласие. В такт им кивает публика.
— Чувство меры удержит меня, — проникновенным тоном заговорил Лужковский, — от многоглаголания… Моя совесть внушает мне, что я не вправе оставить на произвол судьбы то, что должно всецело владеть моими устремлениями, — заботу о будущности подзащитных, заботу о том, чтобы отклонить удар, направленный на головы этих несчастных.
Лужковский пьет воду. Все сидят, не шелохнувшись, и ждут, когда адвокат окончит интересное занятие. Стакан звякает о графин; Лужковский продолжает:
— И я глубоко убежден, что история возникновения прискорбного события имеет глубокие корни в прошлом.
Судья отнимает ладошку от уха и мелодично звякает колокольчиком, призывая адвоката не залезать слишком глубоко в прошлое.
— Бытовой (Лужковский подчеркивает это слово, давая тем понять председателю, что он отнюдь не желает залезать в глубины политического прошлого), бытовой, — повторяет он, — очерк дела выведет наружу действительные причины, мощные, неотвратимые, наличность которых меняет точку зрения на события.
Одобрительный шорох проносится по залу.
Изучим же бытовые факты дела. Особенность его — ничтожный, кошачий, по меткому выражению голодного остроумия, надел. Конечно, надел этот согласен с буквой закона, требовать от закона большего во имя идеального права нельзя. Для тех людей, которые не знают долга выше предписанного законом, которые не чувствуют, что закон — это лишь минимум права…
Председательствующий снова слабо звякает в колокольчик, но на этот раз Лужковский не снижает, а возвышает голос.
— …над которым высится иной идеал, идеал наживы, — для тех людей этот кошачий надел — факт безупречный.
В голосе адвоката рыдающие ноты. Дамы из публики, каждая из которых имеет свою земельку где-то среди просторов губернии, тем не менее тоже вздыхают и шепчут: «Кошачий надел! Ах, ах, кошачий!»
— Уясним же себе, что вышло из этой полуголодной свободы, дарованной нашему крестьянству сорок лет назад. Родилась необходимость вечно одалживаться у помещика землей. Долги росли, кредитор властвовал над должником, закабалял работой на себя… Вы посмотрите на этого крестьянина! — Лужковский простирает руки к Андрею Андреевичу.
На Андрея Андреевича обращены взоры всего зала. Он смущается и прячет глаза.
— На нем одна-единственная рубаха. Она вымыта, она залатана для такого события, но какие слезы лились на эти рубища, когда при тусклом свете ночника жена его чинила то, что уже не поддается починке. И это единственное, что оставил на нем кредитор.
Эффект колоссальный! Андрей Андреевич ежится под сотней устремленных на него глаз. Его прошибает слеза, он кряхтит и бормочет:
— Ах, ты, того-этого, и Марфу приплел, добреющий барин!
В головах дам зарождается очаровательная идея: завтра же преподнести этому мужичку новую рубашку.
— В этом положении, — говорил между тем Лужковский, — не было помина о добровольном соглашении. Фрешер предписывал условия, набрасывая на вечно кабальных мужиков новую петлю.
Все смотрят на обвиняемых так, словно хотят увидеть на их шеях следы тех самых петель, которые на них надевал отвратительный, злой, нехороший Фрешер. Не найдя следов, зал переносит внимание на адвоката.
Так завершалось и вступало в силу то, что Фрешер называл свободными, — Лужковский с презрительной гримасой нажал на это слово, — сделками экономии с крестьянами. Свободные! А триста пятьдесят дел, которые Фрешер возбудил против мужиков в течение десяти последних лет? А половодье сутяжничества, вымогательств, разорений? А неустойки, превышающие долг в два-три раза? А полная опись на неуплату малой доли долга?
Шумок в зале. Председательствующий тянется к звонку, но адвокат продолжает речь.
— Страшно и ужасно прошлое этих мужиков! Десятки лет сосал их Фрешер, десятки лет опутывал их сатанинской сетью условий, договоров и неустоек. В этом тумане потерялось все: вера в правду, в закон… Но они платят, господа судьи, платят, должают и опять платят!
Громкие аплодисменты — это Сашенька нарушает едва сдерживаемое благочиние судебного заседания. Судья хмурит седые брови, строго смотрит в зал, встает… Но Лужковский выручает свою знаменитую приятельницу. С пафосом он восклицает:
— Но вот появляется молодой барин и отбирает у них землю. Почему? Сам князь Улусов своим несчастным видом отвечает на этот вопрос. Он мучим раскаянием, и я верю ему. Его подбил негодяй Фрешер. И вот, лишенные последнего, мужики совершают то, за что их судят. Но разве они виновники этого события? Нет! Тогда спросят меня: кто же? Хотят найти подстрекателя, ищут его, указывают на достопочтенного Луку Лукича… Поглядите на него! Похож ли он на подстрекателя?
Теперь взоры всех сосредоточены на Луке Лукиче. Судьи и председатель снова с глубоким вниманием рассматривают его. Нет, они не верят, что Лука Лукич зачинщик и подстрекатель.
— Но кто же в таком случае является подстрекателем, если не он? — вопрошает адвокат. — Я знаю его! Я выдаю его с головой правосудию! И снова эффектно пьет воду.
Судьи и прокурор настораживаются, зал притихает, словно перед чем-то таким, что повернет все дело. Лука Лукич шепчет:
— Что ты, милый, не было, не было подстрекателей, что ты удумал?
— Бедность безысходная, бесправие, беззастенчивая эксплуатация — вот подстрекатель! Судите же его судом праведным!
Движение и громкое перешептывание в зале. Улусов мотает головой, словно его хлещут по щекам. Гул голосов усиливается. Лука Лукич кивает головой. Андрей Андреевич ерзает на своем месте. Никита Семенович ухмыляется: «Ай, мастак, барии!» «Не робей, братцы, этот выручит!» — шепчет он Петру. Тот отмахивается.
— Откуда же зародилась мысль, что может и должна принадлежать им большая часть улусовской земли? Отчего затеплилась, подобно лампаде средь глухой ночи, в мрачной душе поселянина надежда, что он не батрак, а настоящий земельный человек? Вы знаете причину. Все началось с древней хартии, в которой крестьяне видели высшее предопределение: им казалось, что эта хартия утверждала их право на землю. В грамоте этой упоминаются какие-то вольные многоземельные Дворики. И вот тяжкодумные крестьянские головы стали напряженно думать, забились сильнее привыкшие надолго замирать сердца…