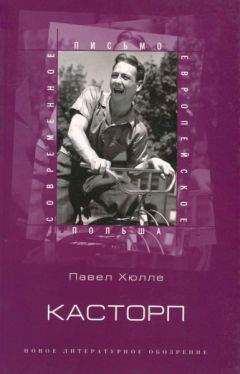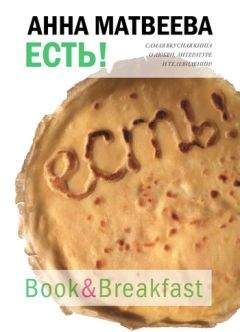Зоя Журавлева - Роман с героем конгруэнтно роман с собой
Мне почему-то сдается, что и на литературной ниве критику полезно раскинуть мозгами и вмешиваться в дело, именуемое «литература», только при явном наличии собственных идей. Ибо пишущий долго думает над тем, что он потом напишет. Критики, по-моему, частенько об этом забывают. Они как-то больше любят отнестись к автору как к ребенку-несмышленышу — автор-де тут недоглядел, упустил, не заметил, случайно обмолвился, само собой — слегка недодумал и вообще сдуру ляпнул. Автор же, на мой взгляд, не так прост. Сдуру да случайно и худой маляр краску на стену не ляпнет, а тут все же — слово, с ним без мысли — никак…
Бродила меж людей в потемках, играла в детскую игру. Любила светлых. Или темных. Любила толстых. Или тонких. За что — теперь уж не пойму. А Ты с печалью на лице, как приговор, стоял в конце моей судьбы. Как точка — в строчке.
Голоса преподавательницы химии, тишайшей Надежды Кузьминичны, я практически не слыхала, она застенчива и беззвучна, вечно всем сочувствует, кивает, улыбается робко, прижмет коротковатые ручки к просторной груди, вспыхнет сочувствием, слезы даже проступят в кротких глазах, снова кивнет. В учительской про нее — забываешь, хоть она тут, на педсовете никак не вспомнишь — была она или нет, была, в уголке сидела. Я, конечно, помню, что некогда, когда у Него был бурный конфликт в роно и Он подавал сгоряча заявление об уходе, Надежда Кузьминична тут же положила на стол бывшего директора, фамилия которой из школьной памяти начисто выветрилась, свое, тишайшее, заявление, тоже — по собственному желанию. Но я считала, что эти гражданские бури для Надежды Кузьминичны минули безвозвратно. С Геенной она исключительно смирна.
И на уроках Надежда Кузьминична скорее не говорит, а шелестит губами, даже странно, что у нее в кабинете всегда почти неестественная тишина. Или уж абсолютной своей беззащитностью в пекле жизни их пронимает? Но как раз ребят этим вроде бы не возьмешь. Они такое пока не ценят. Мне один выпускник кое-что объяснил. Сформулировал, можно сказать, это ж, естественно, был — Его выпускник и знал толк в анализе. «Васильев может сколько угодно гневаться, дергать носом и выгонять из класса, дело привычное. Так уж в борьбе и живешь, злишься на Него, назло порой делаешь, он тоже злится. Все равно делаешь, это уж потом стыдно. Даже Маргарита Алексеевна! Ну, будет тебя донимать Гоголем, Буниным, Чеховым. Хочешь — на свой счет примешь, не хочешь — не примешь. Это уж потом стыдно. А вот если Надежда Кузьминична ручки к груди вдруг прижала и у нее даже шепот пропал — это стоп, сразу тебя как стукнет. Значит уж точно: ты гадость делаешь, надо закругляться…» Так сформулировал выпускник. Помолчал, подумал. И еще добавил, для полноты исчерпывания, как все Его выпускники. «Или Мирхайдаров вдруг скажет: „Не понял“. Слышхали? Ну, значит за вами гадостей нет, извините». И выпускник хорошо засмеялся, свои — наверное — вспомнил…
Кстати, напрасно я беспокоилась, как Машка называет в школе своего классного руководителя. Мирхайдарова, по-моему, все, и учителя и ученики, именуют исключительно: «Мирхайдаров», во всяком случае — за глаза. А что? Фамилия — звучная, даже трубная, протяжный крик венценосного журавля, и, отзвучав, протяжно и четко держится потом в тишине. Имя-отчество Мирхайдарова, по-моему, кроме Геенны никто и не знает.
Я сижу в уголке директорского кабинета, вроде — читаю Его отчет о воспитании творческого мышления посредством математики. Нина Геннадиевна сидит за своим столом. Перед столом директора робко переминается преподавательница химии, сюда призванная. «Надежда Кузьминична, вы маме Сагаева на работу написали?» — строго, но справедливо вопрошает Геенна. «Я не знаю, где она работает», — шелестит в ответ робко. Сагаев — из шестого «В», ее класс, я там не бывала. «Как это вы не знаете? У вас в журнале должно быть записано». — «Она перешла…» — «Спросите, куда». — «Она все равно не скажет…» — «Может, Сагаев знает?» — «Не буду же я у ребенка выпытывать…» — это уже скорее голос, чем шелест. Но и Гееннин голос окреп: «Одним словом, Надежда Кузьминична, узнайте, как хотите, где эта мама работает, и напишите ей на работу. Это приказ». Я ожидала поспешного кивка. Нет, ничего в людях не понимаю! «Не могу я ей написать, Нина Геннадиевна…» — твердо прошелестело в ответ. «Да почему же? — подпрыгнула за столом Геенна. — Дождемся, когда им комната милиции займется, а нам в нос тыкать начнут!» — «Лучше значит — спихнуть?» Швабрами мне надо заниматься, а не людьми! В швабрах я, может, когда-нибудь и разберусь, если сильно буду стараться. «Не спихнуть, а устроить в приличный интернат, где будет контроль и уход». — «Знаю я, какой там уход…»
Глаза Геенны сконцентрировались, как у фламинго, и остекленели на миг. «Это вы — что же, об интернате?» Но тут же Нина Геннадиевна взяла себя в руки и даже улыбнулась. «Ну, берите его к себе, раз вы такая добрая». — «Взяла бы…» По-моему, даже Геенну при этих ее словах прошиб некоторый стыд, известно, что Надежда Кузьминична живет тяжко, кругом — больные. «Сагаев дома все равно не имеет и в школу не ходит», — довольно мягко пояснила Геенна. «Он мать любит…» — «А матери он не нужен. Пьет. Гуляет». Господи, опять та же история! И почему-то эти дети преданно любят этих своих мам. А наши почему-то любят нас значительно менее пылко. «Она, между прочим, Нина Геннадиевна, всю жизнь работает на тяжелой физической работе и на полторы ставки. Мальчик одет, обут не хуже других». — «Вот туда и напишите, где она работает». — «Если бы Сагаев был из так называемой приличной семьи, все бы его тянули, входили бы в трудный возраст и положение, да? А раз такая мать, значит — выпихнуть?» — «Да не выпихнуть! А помочь мальчику нормально вырасти, в нормальных условиях!» — «Он пока что как раз нормальный. Вова только пока и держится, потому что мы рядом есть: класс, учителя, школа». — «Все учителя в один голос говорят, что ваш Вова абсолютно не работает, не может работать». — «У Юлии Германовны он работает…» — «Три английских слова за три четверти выучил. Это работа?» — «А там пропадет!» Я услышала даже восклицательный знак. Где мои швабры?
«Никто почему-то не пропадает, а ваш Сагаев пропадет». — «Пропадет. Он нежный», — сказала Надежда Кузьминична убежденно. «Нежный? — окостенела директор. — А чего он у вас в кабинете наворотил? Думаете, не знаю?!» — «Ему плохо было. Он сам потом убрал, починил…» — «Десятый „А“ починил, мне известно. Сагаеву всегда будет плохо, нам его не удержать. А без письма матери на работу школа не может об интернате ходатайствовать, вы отлично знаете, Надежда Кузьминична!» Была бесконечная секунда молчания. Потом тишайшая наша преподавательница химии подняла на директора глаза, линялые, близорукие: «Нет, Нина Геннадиевна, хоть режьте. Я не могу написать ей, это — извините — противоречит моим принципам…» Тяжело и беззвучно колыхнулась. Слезы проступили в глазах. Повернулась. Вышла.
Директор долго и взъерошенно глядела ей вслед. «Видали? И не напишет». Но никакой злости, к большому моему изумлению, в голосе у Геенны не было. Я не услышала даже раздражения, которое все более становится органикой для директора. Нет, только швабры! Швабры — моя стезя! Нина Геннадиевна встряхнулась, вздохнула, закрутила диск телефона: «Это завод „Кабель“? У вас в первом цехе работает уборщицей наша мама, Сагаева Марина Андреевна. Да, это директор школы. Да, подожду. Уволилась? Давно? А где она теперь работает, не подскажете? Пусть не уверены, все равно давайте. Какой телефон? Так, записала. Спасибо». Опустила трубку. Передохнула. Опять завертела диском. «Ничего, Надежда Кузьминична, я найду. Вы одна — жалостливая, а нам, конечно, не жалко. Думать неохота, что потом с Плавильщиковым начнется. Все меня перекусят. А его ж тоже в интернат надо, не миновать. Деньги опять взял, слыхали?» — «Какие деньги?» — удивилась я. У Геенны все было занято. Она — походя — кольнула меня взором: «Не умеете врать — не беритесь». Машка тоже этим меня всегда попрекает. «Он взял на святое дело…» — «А завтра на какое возьмет?»
Тут дискуссия наша оборвалась. В кабинет вошел, вернее — ворвался, собственной персоной Васильев. До чего ж все-таки похож на слоненка! Но этот слоненок был сейчас в ярости, хобот гневно задран, и маленькие глазки блестят. До чего красив! Красота все же — понятие самое субъективное. Неотразим! Геенна, вздохнув, оставила телефон в покое. «Да, Юрий Сергеевич, я вас слушаю?!» Но Он в дозволениях и не нуждался. «Это правда, Нина Геннадиевна, что Серафима Петровна на будущий год хочет взять девятый?» — «А почему бы нет? Это ее воспитательский класс. Стажу за ней больше тридцати лет, она опытный педагог, ну, всю жизнь вела — по восьмые, имеет полное право — и старших, предметом своим владеет, методикой тоже. Не понимаю, чего вы разволновались?» — «Не понимаете? Я вам объясню! Я как председатель математической секции бываю у нее на уроках. Это недопустимо низкий уровень! Я ставил перед педсоветом вопрос! Серафиме Петровне давным-давно и седьмые-восьмые классы нельзя доверять. Мы потом получаем ребят с удивительно убогой подготовкой!»