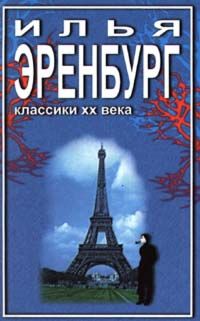Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней
Здесь речь адвоката была прервана, правда не истерикой, но энергичным восклицанием немного успокоившегося Андрея:
— Идиот!
Председатель пригрозил вывести подсудимого из зала. Господин Амеде Гурмо, не смутившись оценкой подсудимого, продолжал. Значит, виновность точно не установлена. Однако возьмем и другую возможность. Допустим, что подсудимый действительно виновен в убийстве. Сколько же есть обстоятельств, смягчающих вину! Присяжные ведь слыхали рассказ этой несчастной женщины. Пусть они вспомнят зарю их супружества, детскую колыбельку, светлый уют семейного очага. Дальше в их жизнь вторгается роковая особа. Она требует за свои ласки денег. Она любит ожерелья, платья от Пакэн, дорогие духи. Любовь, господа, великое таинство! Кто может устоять перед нежным шепотом змеи? Устоял ли Адам? Устоял ли Антоний? Устоял ли Генрих IV? Что такое дансинг «Май-Бой»? Люстры, барабаны, дорогие ликеры, испарения духов. И вот в этом Вавилоне цветет ядовитый цветок — полу-дева, вскружившая голову подсудимому. Она наклоняется к нему, кровавыми устами она шепчет: «Я хочу дорогое манто, я хочу смарагдовую брошку», она дышит, она целует…
И снова красноречивый поток господина Амеде Гурмо был прерван криком Андрея:
— Да перестаньте же паясничать! Я не в силах слышать этой пошлости. Вы можете убить меня, но вы не смеете надо мной глумиться…
Увещевая подсудимого, господин Альфонс Кремье никак не мог понять его горячность. Ну что здесь обидного?.. Он не знал, что Андрей, услышав слово «Май-Бой», вспомнил Жанну, бедную, грустную, милую Жанну, которая так старалась хорошо танцевать, которая, грустно улыбаясь, шептала: «Сейчас мы расстанемся».
А господин Амеде Гурмо теперь взывал к жалости. Но все чувствовали, что ему и самому не жалко убийцу, а говорит он это только потому, что надо же как-нибудь кончить неудавшуюся речь. И все облегченно вздохнули, когда, продекламировав какие-то стихи из Расина о цветке милосердия, который кидают в яму с дикими львами, он наконец-то сел на свое место и стал вытирать шелковым платочком вспотевший от усердия лоб.
— Подсудимый, вам принадлежит последнее слово.
Андрей давно готовился к этой минуте. Он хотел многое сказать. Сказать, конечно, не этим людям, скучавшим в зале. Нет, он надеялся, что слова его будут напечатаны. Их прочтут товарищи. Они узнают тогда, кто этот «интернациональный бандит». Они узнают все. Может быть, они дойдут и до Жанны. Он хотел многое сказать. Но теперь он чувствовал себя настолько обессиленным, что едва-едва приподнялся с места. Он с минуту помолчал, а потом тихо, просто, как будто это было малозначащим случайным разговором, сказал:
— Я не убивал этого человека. Я знаю, что вы мне не поверите, но говорю это не для вас. Я — Андрей Лобов, член коммунистической партии. Я боролся, как умел. Вы меня поймали. Вы хотите меня убить. Раньше я волновался. Мне казалось обидным погибнуть, как уголовный убийца. Но теперь я знаю, что это все равно. Бриллианта я не похищал. Эти камушки нужны вам, а не мне. Вы думаете, что коммунисты и воры одно и то же. Вас разубеждать я не хочу. А те, с кем я сейчас говорю, знают, что это не так, значит, их разуверять не нужно. Вы можете убить меня, вы можете похитить партийные деньги. Это ваше право. От себя скажу одно: я знал и прежде, что вы мертвы, ничтожны, но только сегодня я понял, до чего вы гнусны.
Добродушное бабье лицо господина Альфонса Кремье на этот раз действительно стало если и не суровым, то густо-красным от досады. Он раздраженно завопил:
— Я прошу вас не оскорблять суд! Вам предоставляется слово для выяснения вопроса о вашей виновности, а не для анархических демонстраций. Имеете ли вы еще что-нибудь добавить по существу вашего дела?
— Только одно. Я был счастлив. Я не жалею ни о чем.
Понятно, что после этого совещание присяжных длилось недолго. Последние слова Андрея окончательно ожесточили обиженных лавочников, и, когда в комнате, куда они удалились, инспектор страхового общества, прочитав вопросы, сказал:
— Всем ясно? Четыре пункта? Четыре раза «да»? — раздался общий ропот одобрения. Мало ему убийства! Он оказывается еще анархистом или коммунистом. Слава Богу, что во Франции есть машина, которая быстро укорачивает таких субъектов. Не то они бы разгромили все лавки и вырезали бы всех честных людей.
— Итак, никто не возражает? — спросил снова инспектор, вынимая из кармана перо.
Раздался робкий голос учителя чистописания:
— Может быть, дать ему снисхождение? Как знать, а вдруг это ошибка? На меня лично та слепая страшно подействовала.
Но инспектор и лавочники так удивленно, так презрительно взглянули на него, что учитель чистописания сразу осекся:
— Я ведь не спорю. Виновен так виновен. Я только о своих впечатлениях говорю.
И присяжные стали по очереди расписываться на большом листе. Может быть, если бы в углу комнаты, где они совещались, стояла Габриель, присяжные испугались бы ее светлых, невидящих глаз. Может быть, тогда они не подписали бы этой бумаги. Но в комнату присяжных вход посторонним строго воспрещен, и они подписали смертный приговор, как будто это была простая почтовая расписка. Только старый учитель чистописания коллежа Сен-Поль, который подписался последним, поставил большую кляксу. Это, конечно, неприлично, особенно для учителя чистописания. Но что делать — он не мог забыть глаз слепой.
Господин Альфонс Кремье торжественно читал приговор. Он думал при этом: сейчас домой. Только бы не забыть купить ракету и алжирского семени для канареек. Он читал: «Присуждается к смертной казни через отсечение головы».
Андрей не волновался. Он знал все. Жанны он не увидит. Теперь тишина и смерть. В последний раз обвел он глазами зал. Чужие. Только чужие. Никто не скажет ему «прощай». Жанна далеко. Вдруг в углу он заметил Аглаю, которая, умолив сторожа, пробралась снова в зал. Аглая слушала приговор, но она еще не понимала его значения. «Смерть». Что же это значит? И, взглянув на ее сумасшедшее лицо, Андрей почувствовал огромную нежность. Не обращая внимания на председателя, еще продолжавшего читать о том, на кого падают судебные издержки, он через все ряды обратился к Аглае:
— Аглая, прости меня! За все прости!
Тогда только Аглая поняла, о чем читал председатель. Расталкивая ошеломленных людей, кинулась она к господину Альфонсу Кремье и упала перед ним на колени.
— Пощадите его! Это я одна во всем виновата! Я его до этого довела! Меня и казните, а его пожалейте!
Жандармы оттащили Аглаю. Она кричала. Это была истерика, хотя, правда, и не та, о которой мечтал господин Амеде Гурмо. Председатель, торопясь, объявил заседание закрытым. Желая ободрить начинающего адвоката, он дружески пожал его руку:
— Поздравляю. Такие обстоятельства… Но ваша речь была блестящей.
Господин Амеде Гурмо сдержанно улыбнулся. Именно так нужно улыбаться, выслушивая поздравления. Да, кажется, он говорил с подъемом. Если во время его речи не было истерик, то это не его вина. Та дура испортила все дело. Ну ничего, он выдвинется в другой раз. А сейчас можно ехать к Мари, в ее уютное гнездышко.
Господин Альфонс Кремье побеседовал и с прокурором:
— Вот и отработали. Удивительно скучное дело. Если бы не эта ведьма в шляпе, можно было бы просто умереть с тоски.
Прокурор был, разумеется, в плохом настроении, как и всегда.
— А по-моему, ее следует привлечь к ответственности за оскорбление суда. Скажите, почему таким дают визы? Какое дело назначено на завтра? Снова перепутали все мои бумаги.
— Да не все ли равно вам какое?.. Вы куда? Домой? Так я подвезу вас. Мне бы только не забыть: ракета и алжирское семя!
Расходилась недовольная публика: скучное дело, неинтересный подсудимый, банальный приговор. Ничего щекочущего нервы. Суд теряет с каждым годом свою остроту. Преступники положительно становятся пресными.
Даже лавочники, с сознанием исполненного долга направляясь в свои бакалейные или галантерейные лавки, пренебрежительно кидали друг другу: простое дело, скучное дело. Стоило ли для этого тревожить столько людей?
Андрея вели по коридорам суда. Он еще вглядывался в лица людей. Сам не понимая, что он делает, Андрей все еще искал глаза Жанны. Увидеть! Только увидеть ее! Ведь сейчас камера и конец. Там больше нет людей. Там ее он не увидит.
В раскрытую дверь кинулся золотой май. После сумерек судебного зала песок и небо слепили глаза. Карета уже стояла наготове. До кареты было десять шагов. Десять последних шагов среди живых людей и золотого мая. Кругом толпились любопытные и вдруг, у самой кареты, Андрей увидел широкую фетровую шляпу. Такую шляпу носила Жанна. Он остановился. Он был готов поверить, что это она. Жандармы подталкивали его, но он упирался. Тогда шляпа откинулась назад, и он увидел чужое девичье лицо с нежными карими глазами.