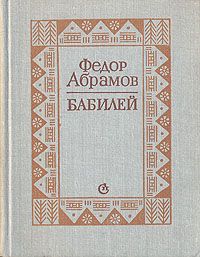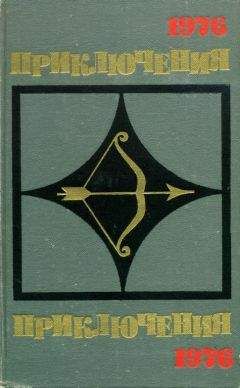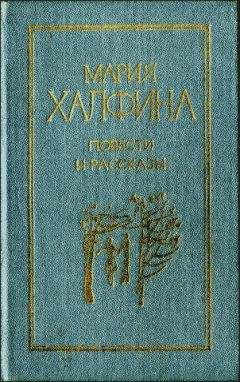Олесь Гончар - Повести и рассказы
— Нате вам! Вот вам! Вот вашим занавесочкам!
Когда не стало летучего огненного дракона, когда исчез он с железным грохотом в темноте, только тогда Бугор в какой-то мрачной усладе опустился возле хлопцев измученный, запыхавшийся, будто после настоящего боя с экспрессом. Нашел сигарету, стал закуривать, спички, едва вспыхнув, обламывались одна за другой, видно было, как дрожат у него руки, Порфир даже не удержался от замечания:
— Руки трясутся, словно кур воровал.
— Заткнись!
Закурив наконец, Бугор бросил спичку, не загасив, пришлось Кульбаке сделать это за него: с огнем в степи шутки плохи! Когда-то Порфир видел, как летом хлеба горели… Ничего нет страшнее степного пожара, когда люди вынуждены бросаться в пламя, в тучи горячего дыма, когда отовсюду бегут с ведрами, со шлангами и, путаясь в густых пшеницах, падают, задыхаются, а потом кого-то подбирают, обгорелого до неузнаваемости, отправляют в больницу… Однажды летом и дядько Иван получил ожоги на таком вот пожаре, вызванном всего лишь искрой от комбайна.
Тяжелой для хлопцев была эта ночь. То один, то другой вскакивал, вглядывался в темень — чудилось им, будто подкрадывается кто-то из степи. Бугор даже вздрагивал во сне, и во сне, видно, не утихало бессмысленное его сражение с ночными экспрессами, что, до ужаса увеличенные сном и воображением, вырастали неудержимо в бесконечную вереницу освещенных грохочущих вагонов, каких-то уже словно бы абстрактных поездов, — вот они без никого идут и идут, пересекая степь, опоясывая планету.
А рассветная пора, то время, когда над степью разливается свет зари и ранние пташки росу пьют, — эта пора застала их возле трассы, где было сухо, бетонно, безросно. На трассе пока что никакого движения, однако хлопцы держались настороже, не забывали, что они беглецы, что за ними в любую минуту может нагрянуть погоня. Накануне из лесополосы видели, как пронесся невдалеке мотоцикл, может, то рыскал по степи их добрый знакомый Степашко, неутомимый ловец меченых детских душ. А однажды показался на полевом грейдере и запыленный школьный автобусик, тоже, наверное, разыскивал хлопцев; над ним можно было только посмеяться, чувствуя себя в безопасности, выглядывая из подсолнуховых джунглей, на которые тяжело оседала туча поднятой автобусом пылищи.
— Наилучшая пыль — эта та, что поднимается из-под колес отъезжающего начальства, — пошутил тогда Кульбака.
А сегодня вот перед ними трасса с безымянной степной остановкой. Вроде волной их прибило сюда. Вокруг никого, только огромные поля клещевины в одну сторону, а в другую — песчаные кучегуры с чубами и без чубов, может, как раз те, которые мама оставила Порфиру, чтобы и ему было где потрудиться. А среди этого безлюдья — магистраль, днем она так и кипит расплавленным от солнца асфальтом, а сейчас еще по-утреннему прохладная после ночи. Беленькая будочка стоит у самой трассы, неведомо кем побеленная, еще и цветами разрисованная, кто-то поставил ее, позаботился, чтобы было где укрыться путнику от дождя или от степной жары. Прилепились и они, ангелочки, к этой остановке, ждут, высматривают автобус. Им, собственно, все равно, куда ехать: в ту сторону или в противоположную. Колес бы им только, скорости, рейса хоть какого-нибудь! Не сами решают, все за них автобус решит: какой первым придет, на том и отправятся, в ту сторону и зашумят. Привычны уже к такому бесцельному катанию. Забьются в автобус, где теснота и духотища, где репродуктор прямо разрывается и тетки сидят над своими корзинами, каждая невозмутима, как Будда, и дядьки-чабаны в пиджаках, несмотря на жару. Девушки-старшеклассницы пересмеиваются, морщатся, корзина большущая отдавливает им ноги, «тетенька, подвиньте», — не слышит тетушка, дремлет… Проедут вот так, от остановки до остановки, и как сели в степи, так и выйдут в степи, только иногда Бугор с кривой усмешкой вынимает из-за пазухи какую-нибудь добычу, сала кусок или еще что, хлопцы даже и не заметили, когда оно к нему из корзины за пазуху перекочевало.
Сейчас Бугор слоняется возле будки сердитый, курево кончилось, потому и не в духе. Кульбаке и Гене тоже не до веселья, усталые после беспокойной ночи сидят у края дороги понуро. Порфир, глядя на грядку бархоток и стройных мальв возле будки, пытается разгадать: кто же их посеял? Ни села, ни хутора поблизости, а будочка стоит, заботливо кем-то ухоженная, и бархотки уже раскрываются бутонами, и мальвы, желтые и розовые, выпустили цветы между шершавых листьев. Должны бы они в росе быть в такое утро, но нет сегодня росы, на листьях пыль толстым слоем, негде напиться ни пташкам полевым, ни этим заблудшим ангелочкам, у которых во рту после ночи попересыхало. Но кто же все-таки посеял эти неприхотливые цветы, что и зноя не боятся, не сами же они высеялись в степи? Какая-то добрая душа это сделала проезжим людям на радость, и при этом возникает перед Порфиром мамин образ: вот она из таких, что не за плату, не по заданию, а просто так, от души, могла бы посеять, чтобы красота явилась чьим-то очам и порадовала людей, пусть даже и незнакомых… Бугор, заметив, на чем сосредоточилось внимание Порфира, лениво подошел к цветнику.
— Какая тут для меня растет?
И стал неторопливо скручивать головку высокой, облепленной цветками мальве.
— Не тронь! — вскочил Кульбака.
Бугор, даже не оглянувшись, продолжал с издевательской ухмылкой мучить стебель, крутить его.
— Не трогай, гадина! — закричал Кульбака. — Ты его сажал?
А тот, еще больше раззадоренный наскоком Кульбаки и назло ему, дал себе волю: шагнув на клумбу, он, кривляясь, пустился танцевать на ней, бархотки так и трещали под его разбитыми башмаками:
— Лап-тап-туба!..
В бешенстве Порфир кинулся на Бугра, стараясь головой, плечом, всем телом сбить, столкнуть его с клумбы. Гена, преодолев вечную свою нерешительность, подскочил на подмогу, пытаясь хоть за руку укусить хулигана, и именно ему первому и досталось от Бугра, от его железного кулака: ударил так, что кровь брызнула из носа. И все же Кульбака в этот момент, изловчившись, успел повиснуть на Бугре сзади, перегнул его, повалил, и потом уже вместе с Геной они насели, навалились на своего недавнего кумира, стали люто тыкать его мордой в землю — если росы не напился, так земли наешься!
Вырвавшись, Бугор с грязной бранью отскочил к будке, все лицо его было в земле.
— Была бы при мне финка… — процедил, утираясь ладонью. — Ну да у нас еще будет встреча под оливами…
Это, собственно, и было их разрывом. Когда подошел автобус, Бугор сразу прыгнул на подножку, дверь за ним тут же закрылась автоматически, помчался бесплатный пассажир меж корзинами в том направлении, где чебуреки как лапти.
Гена утер с лица кровь, улыбнулся Порфиру:
— Ох и дали ж мы ему… То все он ездил на нас, а теперь вот мы на нем покатались…
— Тварь! Он еще угрожает… Да ты мне в чистом поле лучше не попадайся!
Веселые были, чувствовали себя героями — расквитались наконец с давним своим тираном. Получил свое: и за издевки, и за грубости, и за то, что на черешнях плутовал, свернув все на Порфира… Подсознательно, пожалуй, входило в расплату и то, что подбил их на этот побег, принесший им уже немало горечи… Отряхивались, искали оторванные во время баталии пуговицы, что куда-то поразлетались; комичные моменты боя еще веселили их дух; забыли хлопцы и про опасность, а она ведь не исчезла! Как образ ее, вдруг выскользнул откуда-то из-за кучегур мотоцикл, и замелькала над полем клещевины грозная инспекторская фуражка. Так и сдунуло хлопцев с трассы, что было мочи бросились наутек, очертя голову неслись куда-то, мигом уменьшившись до размера воробьев! Стали еще даже меньше, стали как те травяные оркестранты, которые, только ступишь, так и брызнут из-под ног во все стороны, чтобы бесследно раствориться в траве.
XXVIIIЕсть на лимане человек, такой бесстрашный, — множество раз его убивали, топили, а он снова и снова возвращался к жизни. Осень, ночь тьма-тьмущая, а он с товарищами, а то и один в лодке смело идет на браконьеров. Знает, куда идти, и ночи не боится, прямо в нее светит фонариком.
— Не свети, не то как засветим…
Пренебрегая угрозой, дает луч, и тогда в ответ — вспышка, толчок! То выстрел по нему из дробовика. Хорошо, что он в ватнике, дробь застряла в нем. Не теряется и после выстрела, бросается к их лодке, а они бьют его веслом по рукам (руки навсегда останутся у него со следами этих ударов).
А то еще швыряют ему огонь в лодку, чтобы спалить.
Иной раз налетает он среди ночи на таких, что уже успели побывать там, где козам «рога правят». Отбудет такой тип и, вернувшись, устраивается на работу для отвода глаз, на самом же деле ночной жизнью живет, в гирле каждую ночь промышляет, несмотря на запреты.
Мотор на лодку ставит таких сил, что инспектор его не догонит, разве только в сердцах выстрелит ему вслед или ракету пошлет… А порой средь бела дня, когда догоняешь его, он сети вместе с рыбой да с камнем, загодя приготовленным, у тебя на глазах выбрасывает за борт да еще издевается: «Возьми теперь меня!» Знает; что, когда рыбы нет, следователь без прямых улик дела не заведет. И какая тяга в них к этому браконьерскому занятию! На риск идет, о каре забывает, даже из тюрьмы вернется — и опять за свое. Норовит устроиться где-нибудь поближе к воде, вместо реквизированной ранее лодки у него уже дюралька появилась, самодеров наделает — однорогих, двурогих, трехрогих, и как ночь — так и на рыбца. А то еще острогу-сандолю прихватит, ею, как вилами, бьет. Рыбохваты ненасытные, нет пределов их аппетитам. Во время нереста солят рыбы целые бочки, полные чердаки ее навяливают, чтобы потом из-под полы — на базар.