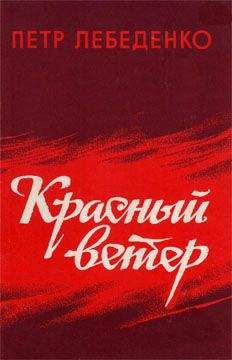Пётр Лебеденко - Льды уходят в океан
И вдруг он услышал над самым ухом:
— Здравствуй, добрый человек!
Домбрича от неожиданности качнуло, и он даже сделал какой-то странный жест рукой, словно защищаясь от нападения. И оглянулся.
Перед ним стоял Захар Федотович. Густая борода, глубокие морщины на лице, будто по щекам когда-то бежали ручьи, потом высохли, а след от них остался. Глаза умные, но жесткие, в них не то гнев, не то угроза.
Захар Федотович усмехнулся:
— Напугался, што ли? Здесь, чай, не тайга, пошто пугаться-то?
— Да нет, я не напугался, — придя в себя, ответил Домбрич. — Но вы так внезапно… И почти неслышно…
— Ты што ж тут стоишь? — спросил Захар Федотович. — Поджидаешь кого? Или так, прогуливаешься? Чистый воздух вдыхашь?
Домбрич молчал. Прислушивался к словам старика и молчал. У него вдруг возникло такое ощущение, словно где-то совсем рядом стоит Полянка и, чтобы подшутить над ним, говорит измененным голосом. Правда, ей это плохо удается, она переигрывает, слишком уж глотает звук «е», но все остальное — ее…
— Я знаю, кто вы! — обрадованный этим открытием, воскликнул Домбрич. — Сказать?
— Ну-ка?
— Вы отец Полины Захаровны.
— Угадал, — без всякого энтузиазма заметил Захар Федотович. — А ты, спрашиваю, пошто стоишь тут, вроде как затаился? И што ты вообще за человек?
— Композитор я, Захар Федотович, — сказал Домбрич. — Слышали о такой профессий? Музыку я пишу.
— Вона! Болыпо-ой человек. А Полину Захаровну откуда знаешь?
Старик почти неуловимым движением поправил на плече ружье и, кивнув Домбричу, точно приглашая того вместе пройтись по леску, не спеша пошел дальше от дороги. Домбрич последовал за ним. Полянка не раз говорила ему об отце, и Домбрич давно уже нарисовал в своем воображении образ таежного охотника, мудрого и опытного следопыта.
— Полянку я знаю давно, Захар Федотович, — ответил Домбрич. — Мы с ней хорошие друзья. И скажу вам совсем откровенно: ваша дочь — необыкновенная женщина! Вы, наверное, очень гордитесь ею?
— Горжу-усь! Это ты правильно заметил.
— Она много рассказывала о вас, Захар Федотович. О вашей жизни в тайге. Знаете, благодаря вашей дочери я так полюбил тайгу, будто родился в ней.
— Вона как! Да ты не оглядывайся, канпазитор. Полянка, поди, задержится… У ней, слышь, сегодня совещанье.
Они уже далеко ушли от дороги, и хотя Домбрич действительно часто оглядывался, увидеть отсюда он ничего не мог: молодой перелесок кончился, ели и сосенки сменились лиственными деревьями — низкорослыми, но раскидистыми, без просветов между кронами.
— А куда мы идем? — спросил Домбрич. — Вы обход своему участку делаете?
Казалось, он что-то заподозрил. Ему не нравился угрюмый тон старика, не нравилось это место, куда его завели, а в том, как старик сказал: «Да ты не оглядывайся, канпазитор». Домбрич, кажется, уловил не только насмешку, но и скрытую угрозу.
— Обход не обход, — проговорил Захар Федотович, снимая с плеча ружье и присаживаясь на полусгнивший пень, — а лучше небось будет, когда мы с тобой вот так, с глазу на глаз. Садись, музыкант, в ногах правды не больно много. Тут вот садись, против меня…
— Я постою, Захар Федотович, — сказал Домбрич. — Мне нельзя надолго задерживаться, спешу я. А вы хотели мне что-то сказать?
— Садись, — резко повторил старик. — Долго я тебя упрашивать буду?! Ты што, канпазитор, русского языка не понимашь? Сядь! Сядь, говорю.
Домбрич, обеспокоенно поглядев на ружье, которое старик поставил между ног, послушно опустился на пень. «Чего ему от меня надо?» — встревожился он.
— Я вас не совсем понимаю, Захар Федотович, — не в состоянии подавить в себе все нарастающую тревогу, сказал Домбрич. — Не понимаю, почему вы разговариваете со мной таким тоном. Прошу мне все объяснить…
Захар Федотович будто ничего и не слышал. Слегка прищурившись, долго и внимательно разглядывал лицо Домбрича, словно навсегда хотел запечатлеть в своей памяти каждую его черточку. Потом, пыхнув дымком, сказал:
— Вон ты, значит, какой. С разными людьми приходилось мне сталкиваться, а вот с генюями, слышь, не приходилось. Думал по темности своей: раз генюй — значит, великий человек. А оно вона што получилось. Сидишь ты, канпазитор, и душа твоя в пятки ушла от страха, думашь только одно: чего, мол, этот кержак делать со мной собиратца? Думашь так?
Домбрич выдавил улыбку.
— Что вы, Захар Федотович! Ничего такого у меня и в мыслях нет!
— Плохо, выходит, сображашь. Потому што встретился я с тобой не для приятной беседы. Как ты думашь, должон или нет отец о детях своих беспокоитца, от волков их беречь? Должон, спрашиваю?
— Н-не знаю, — чуть слышно пролепетал Домбрич. — От каких волков?
— От двуногих. Которы за кустами хоронятся, дичь выслёживают… Ты, генюй, чего сюда повадился? Тебе што, жить надоело, а? Ты Пьётру знашь? Знашь Пьётру, спрашиваю? Он у меня вот тута! — Старик ладонью ударил себя по груди. — Тута, рядышком с сердцем. Я тыщу таких генюев, как ты, за одного Пьётру не возьму. Куда тебе до него!
Старик выругался, с остервенением взъерошил и без того встрепанную бороду. В глазах у него было столько гнева, что Домбрич как-то невольно отшатнулся. «Он совсем невменяемый, у него сумасшедшие глаза, — со страхом подумал Домбрич. — А руки — как йедвежьи лапы. Он еще убьет меня…»
— Я ничего плохого Петру Константиновичу не сделал, — сдавленно проговорил Домбрич. — Если мы встречались с Полиной Захаровной, то это совсем не значит, что мы обманывали ее мужа. Поверьте мне, Захар Федотович, я могу вам поклясться, что мы с Полянкой были только друзьями.
— Еще не хватало, чтоб обманули!.. Вставай! — приказал старик. И сам поднялся. — Волк ты, а душа твоя — заячья. Сколь горя ты Пьётре принес, знашь? Человек чуть веру в человека не потерял — кака это боль, знашь? Ни хрена ты не знашь! О своем только думашь, о себе толька! Лишь бы тебе хорошо было… Так вот, вникай в мои слова, музыкант: ежли я тебя тута ишо раз замечу — на себя пеняй. Понял ты меня?
— Понял, Захар Федотович, — побелевшими губами сказал Домбрич. — Я все понял.
— Забудь про Полянку с сей секунды, — продолжал старик. — Будто и не знал ее. Не забудешь — на дне моряокеана найду тебя… Понял, спрашиваю?
— Все понял, — повторил Домбрич.
— Значит, не совсем ишо дурак, — сказал старик. — А теперь — гони. Без оглядки до самого дому гони. Ну?
Домбричу хотелось бежать, но он заставил себя не унизиться еще до этого. Повернувшись, медленно уходил все дальше и дальше, не в силах избавиться от мысли, что безумный старик вот-вот выстрелит ему в спину…
ГЛАВА XIII
Через месяц после той встречи с Бесединым Дашенька почувствовала, что забеременела. Это так ее напугало и встревожило, что долгое время она не находила себе места от мрачных мыслей. Что она теперь станет делать? Как будет смотреть людям в глаза, когда узнают о ее позоре? Ведь все станут над ней смеяться, думала она, показывать на нее пальцем и зло подшучивать… Как она все это вынесет?
Надо было что-то предпринять, надо было все обдумать, но свалившееся на нее несчастье настолько потрясло Дашеньку, что она уже не могла заставить себя спокойно поразмыслить над своей бедой и только металась, не находя покоя.
А ее недуг будто и ждал случая, чтобы показать свою силу и доконать человека, так долго ему сопротивляющегося. Все чаще приходили к Дашеньке мучительные головные боли, все чаще она в отчаянии опускала руки, даже не пытаясь бороться со своим недугом. Наоборот, тедерь она с надеждой ждала, когда на нее нахлынет то «затмение», в котором она хоть на время сможет забыться и избавиться от горьких дум…
Однажды, чувствуя непреодолимую потребность с кемто поделиться своим горем, Дашенька решила пойти к Беседину и обо всем ему рассказать. Да, именно к Беседину! Он лучше других должен понять ее состояние, потому что кто же, как не он, должен разделить с ней ее беду, кто, как не он, обязан помочь ей?!
У нее даже возникла надежда, что Илья Семеныч постарается сделать так, чтобы она больше не мучилась, чтобы кончились те страдания, которые не дают по-человечески жить.
Сейчас ее не смущало то обстоятельство, что Илья Семеныч в последнее время умышленно избегал ее, не желая встречаться. Она и сама старалась не попадаться ему на глаза, каждый раз цепенея от мысли, что вдруг лицом к лицу столкнется с ним. Но то, что было раньше, думала Дашенька, не в счет. Тогда Илья Семеныч был сам по себе, а она сама по себе. Теперь же все по-другому: у них будет ребенок. Его и ее ребенок…
Дашенька пошла к нему поздним вечером и долго бродила возле дома, поглядывая на полоску света пробивающуюся сквозь щель между темными шторками окна. Ей надо было войти сразу же, не раздумывая, пока у нее не иссякла решимость, но она замешкалась, стушевалась, а потом от ее решимости не осталось и следа. А вдруг он не откроет дверь? А вдруг, увидав ее, скажет: «Ты зачем пришла! Я тебя звал? Ну-ка, давай обратно!» Что она тогда будет делать? Попросит, чтобы он выслушал ее? Или, закрыв лицо руками, стремглав убежит, не сказав ему ни слова?