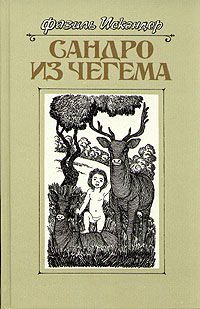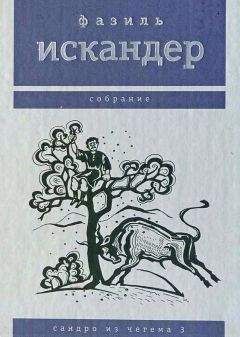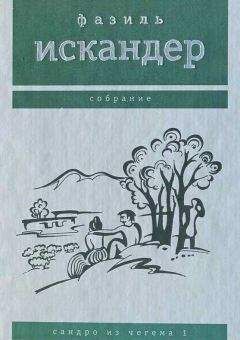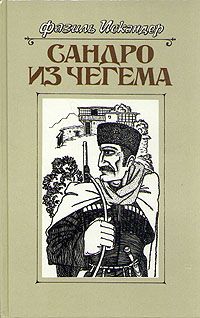Фазиль Искандер - Сандро из Чегема. Том 2
— Зейнаб, куда намонтажилась? — раздался чей-то голос.
Я обернулся. Шагах в десяти за одним из соседних столиков, тесно облепив его, стояли человек шесть молодых людей. Они пили только кофе, но мне показалось, что у некоторых из них странно возбужденный вид.
— Не твое дело! — крикнула она туда, однако тут же следом послала улыбку, явно довольная, что ее наряд замечен.
— Зейнаб, вмажем опиухи! — раздался голос из-за того же столика и хохот компании.
— В другой раз, — опять улыбнулась она им и выпила второй стакан шампанского.
— Наркоманы? — сказал я.
— Да, — нежно улыбнулась она, — любители поторчать. Вон тот, что с краю, пятый год сидит на игле. У него сейчас глухой торчок. Вот он и молчит. У остальных бархатный.
— Неужели и вы? — спросил я.
— В жизни надо все попробовать, — назидательно сказала она, — чтобы было что вспомнить в старости. Я раз десять пробовала. Только не каждый день. Это сказки, что нельзя остановиться. Вот один из них сам соскочил с иглы, и ничего.
Пожилой человек, проходя мимо нашего столика, заметив Зейнаб, остановился, удивленно оглядел меня и сказал:
— Зейнаб, передай Дауру, в Краснодаре ждут…
Еще раз подозрительно оглядев меня, добавил:
— Пятнадцать или двадцать… Крайний срок послезавтра…
— Хорошо, — кивнула она и одарила его щедрой улыбкой. Тот не ответил на улыбку, возможно из-за меня, и прошел.
— Зейнаб, — крикнул один из наркоманов, — а я скажу Дауру, чем ты тут занимаешься!
— Заткнись, фуфлошник, — отрезала она, — с кем хочу, с тем и пью!
— Это тихарик, Зейнаб, — не унимался тот, — он вас всех кладанет!
Тут она на мгновение ощетинилась. Темные глаза в мохнатых ресницах вспыхнули. Явно обиделась, то ли за себя, то ли за нас обоих.
— Ты, Витя, совсем оборзел! — крикнула она. — Как бы потом жалеть не пришлось!
Я разлил шампанское. Она выпила свой стакан и сказала:
— Не обращай внимания. Я знаю, ты пишешь стихи. Посвяти мне стихотворение, кейфарик!
Я что-то невнятно промычал в ответ в том духе, что у нее, вероятно, есть человек, который может посвящать ей стихи.
— Нет, — сказала она, — он совсем другим делом занимается.
— Каким? — спросил я, хотя уже догадывался, кто он такой.
— Он богачей обкладывает налогами! — захохотала она, откидываясь. Так с хохотом падают в море или в постель. — Это же ваш лозунг: грабь награбленное!
Я кое-как отмежевался от этого лозунга. И тут она добавила:
— Ты не подумай, что я воровайка. Я его подруга. Он мне нравится, потому что никого на свете не боится. И щедрый. Он мне однажды сказал: «Я бы тебе купил машину, но ты же сумасшедшая, разобьешься!»
Она опять расхохоталась, откидываясь, и снова закурила.
И тут вдруг, сделав в нашу сторону несколько шагов с тротуара, подошла маленькая девочка в беленьких гольфиках и с большой нотной папкой в руке. Подходя, она что-то сердито бормотала.
Остановившись в двух шагах от нас, она бесстрашно посмотрела на Зейнаб и сказала:
— Девушке неприлично курить. Тем более в общественном месте.
— Иди, иди, — отмахнулась от нее Зейнаб, но девочка продолжала стоять, и тяжелая нотная папка слегка оттягивала ей плечико.
— А вы курите и, оказывается, пьете вино. Это неприлично, — сказала она строго.
— Иди лучше и побренчи своей мамаше, — ответила Зейнаб, но мне показалось, что она несколько смутилась.
— Порядочная девушка не должна курить и пить вино, — сказала девочка. И по всему ее виду, маленькая, спокойненькая, в чистеньких гольфах, с чистеньким лицом, было ясно, что она не спешит уходить.
— Ну что ты приклеилась, лилипутка! — бросила ей Зейнаб презрительно, но мне показалось, что она все-таки несколько смущена.
— Я не лилипутка, — сказала девочка, — у меня нормальный рост для моего возраста. А вы ведете себя неприлично в общественном месте.
Зейнаб гневно нахмурилась. Девочка еще немного постояла и, наконец, видимо, решив, что она-то свой долг выполнила, повернулась и достойно удалилась, покачивая своей большой нотной папкой, почти достававшей до тротуара.
— Из таких змеенышей, — сказал Зейнаб с ненавистью, — вырастают комсомольские вожаки. Недавно один такой вызывал меня. Я работаю, для понта, конечно, на швейной фабрике. И вот он читает мне проповедь, что я связана с плохими людьми, а сам воняет на меня глазами и потную свою руку кладет мне на плечо. Я говорю: «Руки!» Он ее убирает и снова читает проповедь и зовет меня на какую-то вроде бы загородную экскурсию, а глаза воняют, и опять кладет руку мне на плечо. Я психанула, схватила пепельницу и врезала ему в морду! Он завопил. «Попробуй пожаловаться, — говорю, — мать твоя не наплачется!» Как миленький успокоился.
Она закурила, резко выдохнула дым, как бы отвеяв дурные воспоминания, и, просияв, сказала:
— Ты сейчас умотаешься, что я тебе расскажу. Недавно я была в театре. И вдруг вижу, с той стороны фойе выходит интересный, высокий дядечка… Только я подумала, хорошо бы к нему прикадриться, как вдруг… — Не удержавшись, она снова безумно захохотала. — Это был мой бывший муж… Я его не сразу узнала…
Не успел я оценить юмор ситуации, как с улицы раздался сигнал клаксона.
— Это меня, — встрепенулась Зейнаб. И, оглянувшись, добавила: — Пока, еще увидимся, кейфарик!
Она побежала к машине, стоявшей на противоположной стороне улицы. Рядом с шофером сидел человек с бронзовым профилем Рамзеса Второго, если, конечно, тот профиль, который я имею в виду, принадлежит именно Рамзесу Второму.
Он ни разу не взглянул в сторону бегущей девушки, как мне показалось, демонстрируя недовольство. Она уселась на заднем сиденье, и машина укатила. К величайшему удовольствию наркоманов, я остался с пустой бутылкой из-под шампанского. Даже тот, что, по словам Зейнаб, был в глухом торчке, мрачно улыбнулся.
Я, конечно, слышал о Дауре. Знал, что он связан с подпольными фабрикантами и время от времени подаивает тех богачей, у которых капитал перевалил за миллион. Думаю, что это некоторым образом миф, думаю, что в реальной жизни богачей начинают доить несколько раньше. Но во всем этом есть некая правда. Как это будет видно из дальнейшего рассказа, богачей в стадии первоначального накопления он не только не потрошил, но, наоборот, защищал. Возможно, тут был принцип: дать овце нарастить шерсть.
Но меня не эта сторона его жизни занимала. Меня привлекали рассказы об ураганных вспышках его темперамента. Когда ты писатель и ведешь всю жизнь долгую, кропотливую, осадную войну, такой характер не может не привлекать.
Конечно, играют роль и благородные мотивы некоторых его безумных вспышек. Однажды двое иногородних парней стали приставать к соседке, девушке-грузинке. Она рядом с кофейней ела мороженое. Парни приставали столь грубо, что девушка расплакалась. Заметив это, Даур подошел к ним и вежливо предложил им извиниться перед ней. Те его послали подальше. Тогда он выхватил пистолет и уже заставил их стать перед ней на колени. Очевидец, рассказывавший об этом, утверждал, что парни эти оказались с достаточно крепкими нервами и далеко не сразу подчинились ему. Собралась толпа, друзья пытались увести Даура, он он, ослепнув от ярости, всех отгонял, пока не добился своего.
В другой раз он был на абхазской свадьбе, и какой-то районный пижон, не зная, кто он такой, сильно нагрубил ему. Мне об этом рассказывал человек, который сидел поблизости.
И вдруг Даур упал и потерял сознание. Пижона, конечно, мгновенно посадили в машину и услали домой. Окружающие удивлялись такой нежной впечатлительности, приводя гостя в себя. Придя в себя, он простодушно сказал:
— Так со мной бывает всегда, когда я должен был убить человека и не убил.
Видимо, сила возмущения и этические тормоза (не портить свадьбу) схлестнулись и вызвали этот шок. Слышу голоса: неадекватность реакции! Правильно, но мы с вами по отношению к жизни проявляем такую неадекватную терпеливость, что только при помощи таких людей и устанавливается некоторое относительное равновесие.
Через несколько месяцев мы с ним познакомились в этой же кофейне. Нас познакомил его двоюродный брат, мирный чиновник министерства просвещения. Даур был чуть выше среднего роста, крепкого сложения, с горбоносым лицом, с большими голубыми глазами, которые смотрели на мир с печальной трезвостью навеки обиженного мечтателя.
В начале знакомства он был настроен несколько меланхолически, жаловался на свою неуживчивость. Потом взбодрился и сказал, что самой большой ценностью в жизни считает хорошую книгу. Было бы полной фальсификацией думать, что в его словах прозвучал намек на то, что я имею отношение к создателям хороших книг. Такого намека не последовало и в дальнейшем. Его интересовала проблема в чистом виде.
— У меня нет академического образования, — сказал он, — но я всю жизнь, когда это было возможно, много читал… Я бы тоже хотел прийти с работы домой, умыться, поужинать и сесть за книгу… Но не получается!