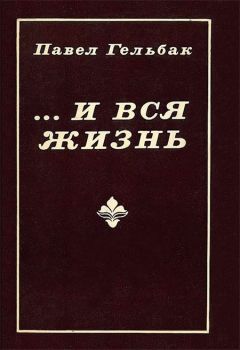Павел Паутин - Дом с закрытыми ставнями
Учи их, Никифор, строже учи. Меня вот тоже смолоду учили, да вот по сей день говорю, что мало учили. Любишь дитя — не жалей розги.
Мать сидела у кухонного стола и уважительно слушала деда. А он говорил густо и спокойно:
Хорошее дело лежит, а плохое бежит; а ну, кто дознается? Позор да срам какой! Моя молодость вся в труде прошла. Лето на работе, зимой за скотиной, да за хозяйством умаешься, да упаришься. Ляжешь, спины не чувствуешь, а не то, чтобы о худом думать. А на медных рудниках вагонетки толкал. Заместо лошади. Я пять и лошадь пять. Другие мужики по одной, от силы две толкают. Так идешь, что земля гудит. Соберемся на отдых, обнимемся единым кругом, «Дубинушку» споем, и все враз поднимаемся, а то по одному не встать. Плохо жил. Вот только под старость — то лет и довелось увидеть хорошее… А вот они, внуки — то, ворами растут, енто как понимать надо, а?
Зашебуршало в сенках. Мать посмотрела на дверь. И вот влетает Ванюшка, как всегда, в разодранной рубахе, сияющий. Мне так стало жалко его, что я, забыв о божьей каре, закричал:
Ванька, беги! Драть будут!
В глазах у Ванюшки страх, а на лице улыбка.
Беги! — повторил я.
Ванюшка бросился к двери, но там уже стоял дед.
Пусти! Пусти! — рвался Ванюшка.
Мать схватила его, подтащила к скамейке: Привязывай!
Отец достал из — под лавки старые вожжи, снял с Ванюшки штаны и привязал его лицом вниз.
Мать подала прут. Тишину рассек резкий свист.
У меня задрожали руки и ноги, и я отполз в дальний угол. Мне стало холодно, и зубы мои застучали.
Ты брал деньги? — спросил отец.
Нет, — закричал Ванюшка.
Дай ему! — разозлилась мать.
Отец еще раза два попробовал прут в воздухе и только после этого полоснул Ванюшкину спину. Тот коротко охнул.
Не охай, еще не больно, — прикрикнул отец, — а вот так немножко покрепче, — ударив, проговорил он. — Брал деньги? Скажешь, прощу.
Брал.
Сколько?
Пять рублей…
За вранье получай! — отец замахал прутом.
Я зажмурился и только слышал свист розги и крики брата.
Не ври! Не воруй! — кричал отец.
Я не вытерпел, спрыгнул с печки и подскочил к отцу.
Не бей, ему больно! — Я вцепился в его руку.
И тебя тоже забью до смерти, собачье племя!
Я стал пинаться. Вырвался, бросился из кухни во двор.
Стой! Куды? — закричал Калистрат, схватив меня во дворе. Тут подбежал отец…
Две недели валялся я в пустой комнате, никому не нужный. Редко приходила мать, кормила меня, ставила компрессы и снова надолго скрывалась. Чужими и холодными были для меня прикосновения ее рук.
Только к концу второй недели поднялся я с кровати. Через щели ставня увидел солнечный день.
Я отыскал сапоги, надел их и, покачиваясь, вышел в зал.
В доме шло собрание. Тихо прошел я мимо молящихся братьев и сестер и вышел в огород. Яркие лучи солнца ослепили меня. Минуту я стоял неподвижно. Как весело жила природа: куда — то бежали муравьи, в воздухе сновали неутомимые пчелы, суетились воробьи, высоко проносились ласточки, плыли облака…
Я пошел по тропинке к колодцу. По бокам тропинки росли Желтоголовые подсолнухи. По ним сновали полосатые и синие шмели. В это время бери их прямо голыми руками, не укусят. Они пьяны от душистого нектара.
Из глубокого колодца тянуло прохладой. Я любил сидеть возле него и смотреть в кадку, доверху наполненную чистой водой, в которой утонул кусок июльского неба. А как эдорово набросать в колодец свежих огурцов, поплавают они в воде часок — другой, потом выудишь огурчик и с таким удовольствием вонзишь зубы в его зеленый, холодный, хрустящий бок.
К обеду солнце начало сильно припекать. Оно нагрело бочки с водой и подвялило огуречные листья. Они сморщились, как мягкие тряпки. А если лунки наполнить водой, они сразу же оживут, станут упругими, раскроются, словно зонтики. И я тоже, после того как нас избили с Ванюшкой, стал чутким ко всему, как эти листья. Малейшая несправедливость ко мне или к другим болезненно царапала мою душу. Она сжималась или плакала при виде чужого горя. И я мучился оттого, что не знал, как защитить обиженного…
Жара загнала меня в дом, и я очутился в душном кругу неприятных ощущений. Зал на верхнем этаже был полон людьми. Я вошел, когда отец повелительно обратился к общине:
Братья и сестры, преклоним наши колени и вознесем славу всевышнему за то, что он еще раз собрал нас вместе.
С шумом раздвинулись стулья и скамейки, община встала на колени. Больше всего здесь стариков и старух. Отец, как и другие пресвитеры и проповедники, молился стоя, сложив руки на груди. Я увидел мать, стоящую на коленях рядом с Лизкой. Голову матери покрывал черный с красными цветами платок. Я прислушался к ней.
Дорогой наш Иисус, — молилась мать, — творец наш небесный. Я преклонила колени пред тобой, дабы прославить имя твое. Ты вразумил нас и направил на путь истинный. Прости меня, господи, и детей моих, может, они в чем — то провинились пред тобой? Вразуми ты их, рассей мрак, что закрыл очи ихние, пошли им здоровье…
Мать молилась долго, потом сказала «аминь» и заплакала, тихо качая головой.
Молитвенно гудел душный зал. Каждый что — нибудь вымаливал у всевышнего, у каждого были свои горести и беды.
Наконец моление кончилось, все поднялись с коленей, застучали скамейками и стульями. Слышались сморкания, вздохи, тихий плач.
Отец взял песенник, раскрыл его и, громко прочитав первый куплет, посмотрел на регента. Регент, полный, низкого роста, с красным обрюзгшим лицом, запел:
Как весною солнце
Радует сердца,
Так любовь господня
Любит без конца.
Хор из молодых и старых женщин дружно подхватил:
Так отдай всю жизнь Христу,
Милый друг, теперь,
Счастье, радость, полноту
Даст тебе, поверь.
На собрании отец выглядел аккуратно. Почти всегда растрепанные волосы к началу моленья он гладко зачесывал назад, они опускались до плеч. Он подправлял ножницами усы и бороду.
Попели, попели и снова опустились на колени молиться. Лица у всех сияли благочестием, люди верили, что всевышний отпустит им все грехи.
После моленья наполнили до краев чашу вином, разломали большой каравай на мелкие кусочки, и началось причащение. Перед концом собрания спели прощальный гимн. После него еще помолились стоя и принялись обмениваться обрядными поцелуями. Брат целовался с братом, сестра с сестрой. И уже после этого направились в просторную столовую. Там их ждала еда на длинных столах. Опять молились и потом усердно ели, а дети в это время читали выученные стихи о боге, о тщете земной жизни.
Мне все это показалось таким нудным, скучным и чужим, что я снова ушел на улицу. И там вздохнул облегченно.
По дороге катились десять новых автомашин. «ЗИС–5», — догадался я. Наконец — то город прислал их. Теперь лесозаготовители оживут.
Один из ЗИСов остановился возле дома тетки Ивановны. Какая машина! Быстрая, красивая. Не то, что старые «Уралы», которые дымят, как пароходы, и возят с собой кучу березовых чурочек вместо бензина. Ребята сбегались поглазеть на машину. Подошел и я, забыв о надоевшем молельном доме, осматривал грузовик со всех сторон. И вдруг я удивленно остановился: из кабины вылез Федосей — сын баптистки Ивановны.
ЗИС–5 тихо пофыркивал и вздрагивал. Казалось, мотор вот — вот заглохнет, но нет, он все работал и работал. Мужики расхаживали вокруг автомашины, заглядывали под кузов, похлопывали горячий капот, пинали тугие покрышки, проверяя крепость их.
Ну, вот, мужики, и дожили, — сказал Федосей, хлопнув грузовик по крылу. — Хороша машина, а?
Хороша, да не в те руки попала, — пробурчал Маркел.
Это почему же? — удивился Федосей. Залихватски открыв капот, он наклонился над мотором и стал в нем что — то делать.
Тебе бы в Библии ковыряться, а не в моторе.
Вокруг засмеялись. Мотор вдруг заглох.
Федосей заскочил в кабину и нажал на стартер, но ЗИС молчал.
Вот те раз! Новая машина — и барахлить начала! — недоумевал Федосей, снова выбираясь из кабины.
Пусти, — Маркел полез в мотор. Минут через десять грузовик снова зашумел, вздрагивая.
Пошто в бобину — то полез? — рассердился Маркел. — Эх ты, чугунная голова! И кто тебе новый ЗИС доверил?
Ну, ну, разошелся! — И Федосей поспешно уехал.
Бабы, мужики и ребятишки стали расходиться. Слабый после болезни, я опьянел от воздуха, от солнца, от хмельных запахов цветов и трав. Тихая радость переполняла меня от встречи с этим сияющим днем. Едва я доплелся до своей кровати, как сразу же уснул, проснулся только на следующее утро…
Маугли
Идет моленье…
Оно — то меня и разбудило своими песнопениями. Я Делся и открыл дверь в зал. В лицо пахнуло спертым, кислым воздухом. Стараясь не дышать, я бросился через зал во двор. Меня встретил лесхозовский гудок, за ним прогудел крахмальный заводик, а в «химлесхозе» ударили двенадцать раз о рельсу.