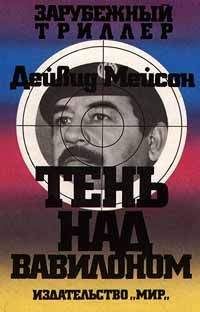Василь Земляк - Лебединая стая
— Это точно, Данько, теперь я один знаю ту тайну. Нет, вру, еще Фабиан слушал в сенях. Притаился, гад, и слушал.
— Человек? — ужаснулся Данько.
— Нет, козел. Я его веничком прогнал.
— Это худо, что третий знает... — Так то ж козел, Данько!
— Э, всякое бывает на свете. А ну как это не козел, а сам Фабиан козлом обернулся? Что тогда?..
— Опомнись! Что ты мелешь, Данько! Последним чародеем был казак Мамай [9].
— Не верь никакому черту рогатому... Где ж он, Лукьяша?
— Под грушей-спасовкой...
Только вышли из хаты, сразу неприятность.
На заповедном месте, под грушей-спасовкой, которую видно из самого Глинска, когда она полыхнет белым цветом и неделю или две стоит вся осиянная, лежал козел и жевал жвачку, как делают после обеда все парнокопытные. Братья стали перед ним как вкопанные. Это было уже слишком даже для Фабиана. Данька так и подмывало спросить: «Это не вы, Фабиан?» Да только разве он признается?
В козлиных глазах не светилось ни искорки ума, он, должно быть, только что пообедал у Явтуха, тот подался в поле, взял с собой Присю, даже детишек послал по колоски, а этот приплелся сюда, захотелось ему полежать в холодке именно под этой грушей, хотя у Голых во дворе такая же спасовка. И почему бы, спрашивается, не остаться там? Нет, вот поди ж ты, лезет сюда и прикидывается дурачком, лежа на золоте! Реакция была мгновенная и та самая, какой следовало ожидать при таком стечении обстоятельств: Данько пошел за цепом. Негодяй под грушей не имел ни малейшего представления, как развернулись бы события в дальнейшем, не появись сам его хозяин со складным аршином за голенищем. Фабиана никогда не зовут, он сам догадывается, когда прийти. Между прочим, козел тоже.
— Умерла? — спросил гробовщик.
— Умерла,— Данько застыл на гумне с цепом.
— Маленькие дети спать не дают, а большие жить не дают,— намекнул философ на конокрадство.— Чем так мучиться, лучше уж к праотцам,..
И Фабиан пошел в хату, а к тому, что лежал на золоте, прилетела бабочка, примостилась на кончике рога и застригла крылышками от духоты. Такой золотистой летуньи братья не видели сроду. Тайком переглянулись, сообразив, что за примета...
За Фабианом мигом явилась и вс,я похоронная команда, все те, кого в Вавилоне никто никогда на эту должность не назначает, как и тех, кто принимает новорожденных. Одни отвечают за начало жизни, другие за ее конец, и никто не смеет выступать в этих двух ролях одновременно. Вавилонские старухи знали свое дело — обладили не одну смерть,— пол от мух устлали ореховой листвой, зажгли свечи перед всеми великомученицами, начиная с Варвары, запели песни над покойницей, а во время передышек шептались о чем-то необыкновенно для них важном. Когда один из сыновей наведывался в хату, чтобы постоять возле матери, старухи умолкали, поспешно искали новую песню и подчас вместо печальной запевали веселую, правда, пели и ее заунывно, а сыновья относили это на счет тонкости ритуала и даже испытывали от этого некоторое облегчение в своем сыновнем горе.
Между тем хлеб осыпался, ничья смерть не могла бы оторвать от жатвы такого неистового труженика, как их сосед Явтух, и потому он пришел к покойнице ночью, привел Присю, стояли они рядышком молча, в волосатой груди Явтуха пылала неистощимая ненависть к Соколюкам — ему запало в голову, будто оба парня попеременно проявляли большой интерес к Присе, а Прися к ним, тоже попеременно, — и смерть старухи могла быть последним поводом для примирения, и вот Явтушок воспользовался им, пришел. Он был маленького росточка, волосатый, как мохнатый пырей на его поле под Чупринками, белоусый, да к тому же еще, напомним, краснорукий и красноногий, как подваренный рачок (это уже от злости на Соколюков, которую он сдерживал годами). И все же теплилось в нем что-то приятное, по крайней мере, для козла, как уже сказано выше. Прися стояла рядом с ним, красивая, налитая, грустная, от нее пахло жнивьем. Прися плакала тихо, чтобы не услышал Явтушок, а то снова подумает бог знает что. Он, когда выходили, спросил Лукьяна:
— Мать вам ничего не завещала?
— А что?
— Могла бы и завещать кое-что... — хихикнул лукаво в горсть и вытолкал Присю из хаты.
Данько в риге при фонаре, висевшем на балке, свежевал бычка, на запах крови или на свет в ригу слетались нетопыри в таком смятении, что Явтуху казалось, будто они вылетели из его собственной волосатой груди. Когда пришли домой, он еще в сенях полез на Присю с кулаками, просто так, за здорово живешь, у него была неукротимая душевная потребность бить ее ни за что ни про что, на будущее. Досыпал он ночь в новой телеге под грушей, единственным деревом в его дворе; этим летом на ней не уродилось ни одной грушки, и это только усиливало его ненависть к Соколюкам. Нетопыри слетались со своей охоты и тихо гнездились у него на груди, складывая там свои усталые перепончатые крылья.
Один глаз у Явтуха то и дело приоткрывался, но ничего особенного во дворе у Соколюков до конца ночи не произошло. Лишь перед светом из хаты вышел Данько с круглой корзинкой в руке, подошел к груше, постоял на заповедном месте в некоем сладком раздумье, а потом поставил корзинку и неторопливо, как ягуар, полез на дерево. Задумал, верно, струсить все спелые груши, чтобы тех, кто придет на похороны, и не тянуло сюда. Стук падающих груш разбудил в телеге и второй глаз. Явтушок встал, размялся, зачем-то тоже полез на свою неплодоносную спасовку и давай усердно трясти ее. Не упало ни одной груши. Данько, сидя на ветвях, засмеялся. Явтушку стыдно было слезать, да, собственно, и незачем, и он просидел там еще долго, пока Прися не позвала завтракать.
На похоронах впереди гурьбы музыкантов шел с кларнетом мой отец, самый большой музыкант в Вавилоне, и наигрывал для покойницы что-то на диво веселое. Вдова доводилась ему дальней родней, так что это могло быть последнее соло для родственницы. Только на погосте он заиграл ей реквием или другое в этом роде. Остальные музыканты молчали, всем им с их неуклюжими самоделками, вконец расстроенными на весенних свадьбах, не под силу было тягаться с кларнетом. Только бубен, как древнейший человеческий инструмент, в нескольких местах решился напомнить о себе. Его смастерили из шкуры старого козла, который жил в Вавилоне задолго до появления Фабиа-на, где-то на самом рубеже столетий. Не потому ли козел Фабиан с особым интересом прислушивался к бубну, всякий раз устремляясь мыслями в то неутешительное будущее, когда он, козел Фабиан, подобно своему предшественнику, останется только в мажорных звуках, да еще, может, из его рогов нарежут гребней для девчат, а в Вавилоне появится еще один бубен. Козел ловил себя на том, что всегда думал на погосте о своем бесславном конце. В такие минуты он тихо оплакивал самого себя, а вавилонянам казалось, что это он их оплакивает. Человеческая наивность...
Пробормотав слова благодарности людям, которые оставили жатву и пришли на похороны их маменьки, Данько подумал, что надо бы проведать могилу отца на старом кладбище и воздать должное его памяти. Но тревога за наследство гнала братьев в три шеи от неприветливой обители душ, где Миколай Соколюк этой же ночью узнает от жены, что он недаром сложил голову, что его добро достанется сыновьям. И как ни торопился Данько с кладбища об руку с меньшим братом, памятуя, однако, что с похорон пристало возвращаться печально и с достоинством, хитрые и еще проворные вавилонские старухи опередили его — а может, они и не ходили на погост — и предпочли устроить поминки не в помещении, где еще витал дух покойницы, а во дворе, под грушей-спасовкой, чего, собственно, Данько и опасался. К его великому изумлению, и Явтушок с Присей были уже там. Прися в белом фартучке распоряжалась ужином, а вечно обиженный Явтушок уселся на том самом месте, где зарыто сокровище, и красные его ноги словно разгорелись от золотого сияния, шедшего из-под земли. Можете себе представить душевное состояние Данька, и ведь не было никакой возможности убрать Явтушка с этого места, а туда посадить человека понадежнее или сесть самому. Явтушок сразу стал бы докапываться, чем вызвано такое перемещение, и дело могло бы обернуться к худшему. Поэтому Данько уселся напротив и старался не замечать его ног, которые просто купались в золоте (впрочем, видно, это Явтушку опротивело, и он лихо по-татарски поджал под себя свои проклятые ноги, хорошо известные Вавилону с ранней весны до заморозков). Даньку стоило немалых усилий остаться внешне равнодушным к небольшой перемене позы восседавшего на золоте Явтушка.
Народу стеклось, прошеного и непрошеного, куча, вавилоняне — великие мастера поесть и попить на даровщину, столов на такую ораву не хватило бы, и потому на траве расстелили двумя дорожками целый сверток небеленого полотна, перед которым и уселся опечаленный Вавилон. У всех были основания ожидать именно таких поминок, хотя покойница не из самых зажиточных. Наследство красовалось у всех перед глазами, не знали они только о неоплаченном контракте на плуг-семерик и кое о чем еще (тут старухи принимались таинственно шептаться о загадочном расписном сундучке с неслыханными сокровищами пана Родзинского, за которые сложил голову Миколай Соколюк). На этих поминках появились первые признаки того, что «бородатые сиротки» уже приподняли крышку сундучка, так много было под рукой печеного и вареного, что пресные старушенции просто терялись, не зная, за что прежде хвататься: за голубятину, за нарезанного большими ломтями шпигованного бычка с молодым картофелем или за обливные кувшины водки, быстро превратившие поминки в развеселую беспечную пирушку.