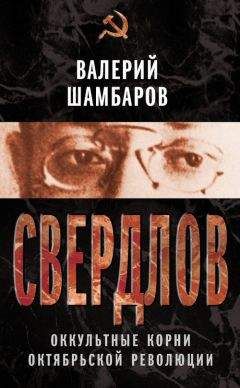Михаил Алексеев (Брыздников) - Девятьсот семнадцатый
И опять эти слова его, точно ударом кнута, обожгли у всех сознание.
Другие в палатке вполголоса обсуждали вопросы о войне, о мире, кому война на пользу, о фабрикантах и помещиках, о земле, о бастовавших за мир и хлеб питерских рабочих.
Отделение, взбудораженное до самых глубин, обмозговывало, разбирало все то новое, что было принесено извне Васяткиным. Настроение ненависти, злобы по адресу забастовщиков и смутьянов совершенно испарилось, и солдатская мысль, выведенная новым словом из состояния тупости и безразличия, подобно вешнему льду, давала трещины, дыбилась, и чем дальше, тем больше ломались зимние устои.
…Лед трогался.
* * *Между тем отделенный Хорьков переживал глубокую внутреннюю борьбу. С одной стороны, для него было ясно, что в отделении начинается смута, что за выявление крамолы он, Хорьков, наверно, будет обласкан самим ротным, а может быть, и батальонным офицерами. Возможно, что получит в награду сразу две нашивки… А там и в отпуск.
Но, с другой стороны, было страшно Хорькову.
«Ведь это не запасная часть, — думал он, — а фронт, позиция. Солдаты озлоблены — смерти не боятся. Убьют из-за угла, а там и весь разговор — курды, мол, подбили. Никто и пальцем о палец не ударит, чтобы разыскать и наказать виновных, потому — фронт».
Хорьков прогуливался вдоль палатки своего отделения и все думал и думал без конца.
Уже совсем стемнело вокруг. Горы покрылись местами стальными, местами молочными туманами. Закат угас. На огромном темно-синем небосводе вспыхивали то там, то здесь большие ярко сияющие звезды.
Сапоги Хорькова со звоном давили подмороженную грязь. А мысли кружились в голове его, точно стайки осенних мух над падалью: «Как быть, на что пойти?»
Наконец Хорьков решился и быстрым шагом направился к большой угловой палатке, где помещались ротный каптенармус, фельдфебель и взводный Нефедов. У входа в палатку Хорьков остановился и закашлялся, точно в припадке удушья. Из нутра палатку пробурчал недовольный голос:
— Кого там чорт носит? Покоя нет!
— Это я, господин взводный. Отделенный Хорьков.
— Ну, что тебе еще?
— К вам по секретному делу… Насчет смуты. — Последние два слова Хорьков произнес шопотом.
— По секретному? Ну, постой, сейчас выйду.
Откинулась полость палатки, и рядом с Хорьковым появилась темная широкая фигура Нефедова. Послышался громкий зевок, а потом вопрос: «Ну?.. Чего еще там?».
Поминутно оглядываясь, Хорьков торопливо рассказал взводному о Васяткине, о том, что говорил он против начальства, как подбивал на бунт, многое прибавляя от себя.
— А как отделение?
— И отделение все за него. Мне угрожали, ежели донесу. Смертью угрожали.
В тишине снова раздался звучный зевок взводного.
— Ну, иди, Хорьков, — сказал он сквозь зубы. — Ступай спать. Завтра разберем.
Хорьков отступил на шаг в сторону, но затем быстро вплотную приблизился к Нефедову и зашептал:
— Господин взводный… Только чтобы я был в стороне. А то худо мне будет. Будьте ласковы. И ротному бы сказать. Меня, может, на другое отделение.
— Иди, не бойся. А ротному я сам доложу.
* * *Когда Хорьков возвращался к себе, кто-то быстрой тенью прошмыгнул мимо него и скрылся за палатками. Хорьков вздрогнул и судорожно схватился рукою за кобур нагана.
Но кругом стояла тишина. «Может, померещилось», подумал Хорьков, отирая ладонью холодный пот, выступивший на лбу.
Вот и его палатка. Отовсюду слышен богатырский храп. Даже дневальные, и те как будто стоя дремлют, опираясь на винтовки.
«Все спят», решил Хорьков и с облегчением вздохнул.
Перед сном он решил выкурить цыгарку. Остановившись, достал кисет, бумагу, не спеша начал свертывать собачью ножку. И в тот момент, когда Хорьков языком смачивал кончик бумаги, у самых глаз его сверкнули два огненных столба и прозвучал гром близких выстрелов.
Хорьков уронил кисет, смял судорожно цыгарку и, точно ловя кого-то невидимого, ничком упал на землю, судорожно обнимая ее руками.
В лагере поднялась суматоха. В разных местах прозвучало еще несколько беспорядочных выстрелов. Из ближайших палаток высыпали наружу солдаты. На шум явился сам ротный офицер Нерехин. Роту выстроили. Солдат начали опрашивать. Но, за исключением Щеткина и Хомутова, оказалось, что никто ничего не знал и не видел. А Щеткин и Хомутов, по их словам, первые выбежавшие из палатки на выстрелы, утверждали, что убийство Хорькова дело рук курдов.
— Выбежал я, ваше благородие, — в десятый раз повторял Щеткин, — вижу, господин отделенный упал, а какие-то два человека в фесках шмыгнули за палатки. Думаю, не иначе, как курды. Я по ним стал стрелять. Потом подоспел Хомутов.
Каждый раз во время своего рассказа на этом месте Щеткин встречался, взглядом со взводным. Нефедов почему-то недоверчиво качал головой, но не говорил ни слова.
Ротный распорядился выставить караул у трупа, усилить дозоры, остальным спать.
* * *Лагерь давно уже пробудился. Привел себя в порядок. Солдаты отпили чай и занимались чисткой оружия, платья, белья. В походных кухнях варился первый, после долгого перерыва, мясной обед. По лагерю носились вкусные, разжигающие аппетит запахи жареного лука и мясного пара. Стоял солнечный день.
В первом отделении третьего взвода, как и повсюду, солдаты занимались чисткой винтовок. Утром похоронили Хорькова, и солдаты, прочищая стволы, разбирая винтовочные замки, вполголоса обменивались своими соображениями о таинственной смерти своего отделенного командира.
Никто из них не верил, что это дело рук курдов. Откуда быть курдам в центре бригадного лагеря, вдали от селений и городов, в шестидесяти верстах от неприятеля? Так думали солдаты, но вслух своих сомнений никто не выражал. И только один-другой косой солдатский взгляд, точно невзначай, на секунду останавливался на невозмутимых лицах Щеткина и Хомутова.
Но лица Щеткина и Хомутова, кроме скуки, ничего не выражали.
Возле Щеткина присел на корточках Васяткин. Толстогубое, узкоглазое лицо его сохраняло, как всегда, выражение внутренней напряженной мысли. Разобранная винтовка была аккуратно разложена у ног его на шинели.
Солдаты отделения расположились у палаток на камнях, в изобилии разбросанных вокруг, и смазывали, терли, скоблили железные и деревянные части оружия. Под яркими и теплыми лучами солнца ослепительно сверкала сталь.
Чья-то тень скользнула по земле у ног Щеткина. Он поднял голову и вздрогнул. Перед ним стоял взводный Нефедов. Огромным веером черная в седине борода и пышные усы Нефедова были всклокочены. Пристальный взгляд прищуренных карих глаз, казалось, старался забраться солдату в самые сокровенные тайники мысли. Руки взводного были глубоко засунуты в карманы мехового полушубка. Розовые щеки особенно краснели, а широкий нос морщился у переносицы.
Щеткин еще раз взглянул на взводного, потом беспричинно засмеялся. Дергая предохранитель винтовки, он весело сказал:
— Господин взводный… папаша наш, Михаил Андреевич. Как поживаете? Что, в гости к нам?
— Не мели языком, — сурово оборвал его Нефедов. — Поговорим еще с тобой — будет разговор. Который Васяткин?
Ему услужливо показали.
— Васяткин, пойди ко мне, — громко приказал Нефедов. — Поговорить хочу с тобой.
Васяткин, улыбаясь, завернул винтовку в шинель, отложил узел в сторону и быстро подошел к взводному.
Отделение насторожилось. Точно повинуясь внутреннему голосу, быстро вскочил на ноги Щеткин и тоже подошел к Нефедову.
— Куда его, папаша, вести думаешь? — скороговоркой спросил он.
— А тебе что за дело?
— Да так, худо бы с ним не было. А? Парень хороший, и мы за него…
— Отстань! Наряда давно не ел. Поменьше блуди языком.
Щеткин промолчал. Нефедов же, не сказав больше ни слова, вместе с улыбающимся Васяткиным пошел к своей палатке.
* * *— Садись, — сказал взводный, указав Васяткину на свою походную кровать. — Садись и рассказывай.
— Что рассказывать?
— Рассказывай, что отделению говорил вчера.
— Не знаю, что и рассказывать, — с широкой улыбкой ответил солдат. — Вы, господин взводный, лучше спрашивайте.
Нефедов сделал два шага вдоль палатки, остановился против Васяткина. Глядя в упор ему в глаза, спросил:
— Из забастовщиков?
— Да, — еще шире улыбнулся Васяткин.
— А за что бастовали?
— За мир и против капиталистов да помещиков.
— Дураки, — процедил Нефедов сквозь зубы и снова зашагал.
— Кто дураки?
— Вы дураки — забастовщики.
— Так, по-вашему, кто за себя и за правду стоит, тот дурак? Кто против угнетения и за свободу стоит — не дурак.
— Сила солому ломит, а плетью обуха не перешибить. Тоже говорят: лбом стену не прошибешь.