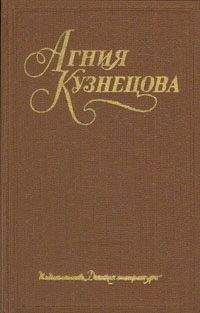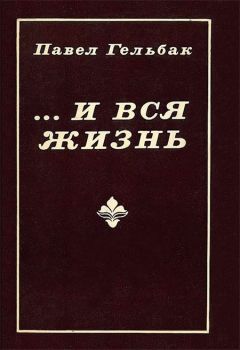Юрий Гончаров - Последняя жатва
Детство, в какой дали эти годы, а помнится – как вчерашняя явь!
Вспомнилось ему еще одно – давняя, давняя встреча, тоже вот здесь, у мостика, с босым мальчишкой лет десяти, сидевшим неподвижно, в бессилии и каком-то тупом оцепенении, даже не поднявшим головы на звук шагов Петра Васильевича по бревенчатому настилу. Было это в начале лета недоброго сорок седьмого года, оставшегося на сердце такой же тяжкой памятью, как и минувшая война. В сорок шестом весь урожай спалила засуха. Но настоящий голод жители деревни почувствовали на другой год, к весне, когда подъели все скудные, до последней возможности растягиваемые запасы. Как только подросла трава – стали печь лепешки из лебеды, крапивы и черт знает еще из чего, лишь бы обмануть желудок, сунуть жвачку в рот опухшим, с синевой на коже детишкам…
Как дня победы в годы войны – с таким же нетерпением в каждом доме, в каждой семье ждали нового урожая, нового хлеба.
Петра Васильевича – тогда его еще редко кто так называл, он был еще просто Петрухой, Петькой Махоткиным – райсобес вызвал на перекомиссию.
Доехать было не на чем, какой тогда транспорт ходил по районным дорогам? Он отправился рано утром пешком. Тая положила ему в холщовый мешочек кусок хлеба своей выпечки и литровую бутылку молока, – на весь день, до возвращения домой. В семьях трактористов кой-какой хлебушек еще водился.
Шорхая по сухому грейдеру сношенными, еще солдатскими сапогами, с холщовой сумочкой в руке, Петр Васильевич в восьмом часу дошел до лощины и, спускаясь с той стороны к мостику, на этом боку, вот здесь, где он отдыхал сейчас, увидел сидящего мальчишку. Сначала он не всмотрелся, ну, мальчишка и мальчишка, мало ли их шатается, может, рыбу ловит, раков или ракушки, – в то лето многие спасались тем, что, натаскав черпаком речных ракушек, жарили их тут же, на листе кровельного железа, и ели, выколупывая мясо из горячих раковин, без соли, лишь бы набить живот.
Но в позе, фигуре мальчишки было что-то, останавливающее внимание: какая-то ненормальная застылая неподвижность.
Петр Васильевич, перейдя мостик, не смог пройти мимо, окликнул:
– Эй!
Мальчишка не пошевелился. Подогнув под себя босые ноги, выставив черные, заскорузлые пятки, он сидел криво, свалившись на бок, опираясь одной рукой о землю; не спал, глаза его были открыты, смотрели – уныло, остановленно – на текущую воду.
Петр Васильевич сошел с дороги, приблизился к мальчишке. Он был не бобылевский – неизвестный, чужой.
– Чего сидишь-то? Ты чей, откуда?
Не поднимая головы, мальчишка невнятно, чуть слышно отозвался:
– С Катуховки…
– Заболел, что ль? Куда идешь?
Мальчишка не отвечал. На стриженой голове торчком торчали отросшие уже на палец, светлые, добела выгоревшие в кончиках волосы, закручиваясь на самой макушке спиралью, вокруг просвечивающего темечка; шея была грязна, грязны уши, рубашка – старая, заношенная, неопределенного цвета, штаны – мешковинные, обтерханные понизу в бахрому. Он выглядел беспризорником, только они такие запаршивевшие, неухоженные, неумытые.
– С Катуховки, говоришь? А чей ты? Мать-отец у тебя есть?
Мальчишка молчал. Петр Васильевич повторил свой вопрос и раз, и другой. Только тогда мальчишка вяло, как через силу, ответил, разлепив сухие, черные, спекшиеся губы:
– Мать…
– А отец?
– Он на войне убитый…
– Так куда ж ты идешь?
– На станцию…
Катуховка была далеко, верст двадцать пять. Даже если малый вышел оттуда затемно, он не мог дойти до этого места. Значит, ночевал где-то в поле. Может быть, вот здесь, у реки, на траве. При нем не было ни мешка, ни сумки – никаких вещей. Нагнувшись, Петр Васильевич вгляделся в его зеленовато-бледное, с водянистой отечностью лицо и понял, что мальчишка изнурен голодом.
Петр Васильевич развязал свой мешочек, отломил кусок хлеба, протянул мальчишке.
Тот взял без радости, даже без охоты; равнодушно, медленно стал жевать, на минуту, другую останавливаясь с набитым ртом, все так же тупо глядя перед собой ничего не выражающим взглядом на блестящую поверхность однообразно текущей, завивающейся маленькими неглубокими воронками воды.
– Ты чего ж из дома ушел? – спросил Петр Васильевич, когда мальчишка сжевал хлеб и как будто немножко окреп.
– Есть у мамки нечего…
– А сколько вас у нее?
– Еще трое…
– И куда ж ты наладился?
– На станцию.
– Зачем?
– К тетке.
– А где она?
– В городе…
– Адрес ее знаешь?
Спина и плечи мальчишки гнулись понуро, придавленно, точно под тяжестью, которую не могли держать.
– Знаешь?
Мальчишка сделал головой едва заметное отрицательное движение.
– Как же ты ее сыщешь?
– Я у ней был, помню…
– Кем она там?
– На стройке. В подвале живет…
– Одна?
– Колька еще и Манька…
– Дети ее, что ль?
– Угу…
– Вот, и ты еще припрешься… Поворачивал бы ты домой!
– Не, туда мне не дойти…
Мальчишка знал, что говорил, несмотря на полудремотное свое состояние, – до Катуховки его уже не дотащили бы ноги. Да и к чему бы он пришел, что его там ждало? Путь ему был только один – вперед, в город; он хоть и разрушен войной, люди ютятся в нем по землянкам, по подвалам, но там дают по карточкам хлеб и другие продукты, и там еще можно на что-то надеяться, на какую-то иную, лучшую судьбу, возле тетки, что нашла себе пристанище в каком-то подвале-общежитии и работает на стройке. Инстинкт жизни направлял его верно, вот только не хватило сил пройти последние километры до станции, до железной дороги, до поезда, который увез бы его в город.
– Ну, пойдем тогда вместе… – сказал Петр Васильевич, подымаясь с корточек.
Мальчишка встал и медленно побрел. Петру Васильевичу пришлось совсем сократить свои шаги, чтобы мальчишка не отставал, тянулся за ним. Но он все равно отставал, а пройдя сотни две метров, остановился и сел в пыль дороги.
– Ты что? – вернувшись, склонился к нему Петр Васильевич.
– Ноги не идут…
Мальчишка опять тупо, без выражения смотрел перед собой. Уйди Петр Васильевич – даже не поднимет головы, так и будет сидеть в этой позе, как сидел в ней у мостика, перед ручьем.
– Ах ты, боже мой! – сокрушенно вздохнул Петр Васильевич. В то лето сердце его устало болеть и мучиться. Садясь семьей обедать иль ужинать, он стыдился есть положенный Таей на стол хлеб, зная, что его нет в соседних дворах.
Он опять развязал свой мешочек, отломил еще кусок хлеба, в полный захват руки, дал мальчишке, потом дал ему хлебнуть из бутылки молока – сколько в него влилось.
Они пошли вперед и не скоро, но все-таки без остановки прошли версты две, и мальчишка, отставая, отставая от Петра Васильевича, снова сел на дорогу. Опять пришлось дать ему хлеба и напоить молоком.
И так он скормил малому весь свой хлеб и споил ему все молоко – полностью истратил свой запас на предстоящий день и на обратную пешую дорогу, но все-таки привел пацана на станцию. Нести пустую бутылку не было смысла, Петр Васильевич бросил ее в придорожную канаву, а мешочек, сложив, сунул в карман.
У самой станции они расстались. Петр Васильевич взял направление в центр поселка, к райсобесу. Он уже опаздывал к назначенному часу и озабоченно думал – примут ли его, а ну как заставят приходить назавтра, и, значит, путешествовать ему в район еще раз. Мальчишка, мелко перебирая босыми ногами, побрел к вокзальному зданию, платформе. Доехал ли он до города, что с ним стало потом? Имени его Петр Васильевич не спросил…
7
Какой-то человек опускался по дороге к мостику на другой стороне лощины. В белой рубашке, белой парусиновой фуражечке, из тех, что шьют для курортников, с тощим рюкзачком за плечами.
Петр Васильевич прищурился, вгляделся – кто же это? Идет не спеша, будто ничто его не торопит… И походка, и облик – все у человека такое, что не похож он на своего, местного.
Человек ступил на мостик, и тут только Петр Васильевич его узнал. Феоктист Сергеич! С самой весны не видал его он, даже соскучился!
Феоктист Сергеич тоже узнал Петра Васильевича. Добрая стариковская улыбка поползла по его обтянутому дряблой кожей лицу, растягивая ее в одних местах, в других нагоняя сухие, мелкие морщины.
– А я дружка вашего, Митрофана, сегодня допрашивал – что ж это Петр Васильевич-то, скоро ли увидим? – еще с моста заговорил Феоктист Сергеич. – Капиталку, говорит, ему делают, а это дело не скорое… Ну, как она – капиталка?
– В ажуре. И подшипники коренные перетянули, и поршня заменили… – в тон Феоктисту Сергеичу усмехнулся Петр Васильевич. – Может, и доживем, что человека, как машину, будут чинить!
– Нет, уж такого, я думаю, не настанет… Сердце, что ни говори, новое не пришьешь. Хоть такие опыты и делают.
У самого Феоктиста Сергеича пошаливало сердчишко, только жаловаться на это он не любил, помалкивал. Проглотит незаметно таблеточку, а сам держится, вроде как ничего ему, все в порядке…