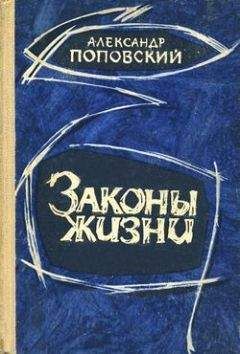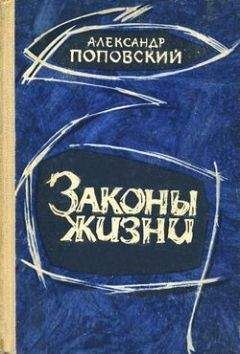Александр Поповский - Человеку жить долго
В тот торжественный день Свиридов надел свой лучший костюм, дал жене завязать новый галстук в косую полоску, начистил до блеска ботинки и с легким сердцем отправился на заседание ученого совета.
Был знойный июльский день. Солнце щедро излучало тепло в окна зала заседания, насыщая помещение жарой. Доклад, назначенный на одиннадцать часов, был перенесен на два, затем на три часа и заслушан лишь в начале шестого. Истомленный ожиданием, Свиридов забыл все, к чему так усердно готовился. Ученые, разморенные духотой, усталые от споров и передряг, вначале слушали его с интересом, затем повели себя так, словно вовсе не было доклада и самого Свиридова среди них. Кто, непринужденно развалившись на стуле, перешептывался с соседом или сразу с двумя, кто попивал нарзан или курил, некоторые даже дремали. Обиженный и раздраженный Свиридов сбивался, терял нить рассуждений, а когда кто-то вполголоса произнес слово «чудак» — кличку, которой его в институте окрестили, он, не окончив доклада, стремительно покинул заседание. Оставаться после этого в Одетое Свиридов не пожелал и, получив приглашение руководить научной работой в ботаническом саду одного из приволжских городов, вскоре уехал.
На новом месте история повторилась. Директор сразу же дал профессору понять, что работа над хлореллой тематическим планом не предусмотрена. Он может ею заниматься во внеурочные часы, к его услугам теплицы и лаборатория. Свиридов подумал, что его недруги из Одессы успели и здесь ему повредить…
Он жил опять в доме бежавшего заводчика на центральной улице города, его окружали дети, жена, но он был счастлив менее, чем когда-либо. Его разлучили с мечтой, лишили возможности к ней вернуться. Надежда найти поддержку в Москве не оправдалась. В почтенной Академии его внимательно выслушали, похвалили за смелость и инициативу и пожелали удач. Президент, — прославленный агробиолог, высказал мнение, которое сводилось к следующему: «К нам в академию не реже двух раз в неделю приезжают люди с различными планами преобразования мира, но мы, увы, заняты другим… Неужели Свиридов не слышал о чудо-кормилице — ветвистой пшенице и о благах внутрисортового скрещивания?»
Неудача сказалась на душевном состоянии ученого. Некоторое время он, ссылаясь на свое нездоровье, не являлся на работу в ботанический сад. Вернувшись, стал еще сдержаннее в общении с людьми, избегал всяких разговоров о своей поездке в Москву и с исключительной страстью предался составлению годового отчета. Дома он подолгу оставался один в кабинете, и до глубокой ночи слышались его неспокойные шаги. Он являлся к завтраку, обеду, ужину и, не проронив ни слова, спешил уйти. Все попытки жены отвлечь его от печальных размышлений ни к чему не приводили. Лишь много времени спустя она поняла, что муж в эти дни переболел недугом, после которого, как после пожара, жизнь надо начинать сызнова.
Да и как было Свиридову не горевать? Ему не поверили, что хлорелла чего-нибудь да стоит. Что нм до безвестного провинциала, до его надежд и страданий?..
Не слишком ли долго позволял он своим чувствам подчинять своему произволу рассудок? По милости этой «чувствительной инстанции» он давал себя убаюкать неправдой. Не разум и воля определяли его решения, а первый трепет сердца — жалость, расположение и даже малодушие. Он не должен позволять чувствам вводить себя в заблуждение. Довольно с него, он поверит лишь тому, что увидит, тому, что подскажет ему рассудок и опыт. Верность науке — первейшая обязанность ученого, но пусть не чувства, а логика укажет ему, кто своими знаниями служит себе и кто отдает их народу.
Теперь уже его не рассорят с собой, не посеют в душе сомнений. Чувствительному сердцу придется склониться перед силой умозаключения. Этому правилу он будет следовать и в научном эксперименте. У него скверная манера предвосхищать результаты изысканий, думать о том, чего еще нет, строить иллюзии там, где нужен строгий анализ. С этим пора покончить, легковерию не место ни в глубинах души, ни в недрах лаборатории.
Свиридов решительно переменился. Обычно внимательный к советам жены, всегда готовый с ней согласиться, он стал крут и неуступчив. То, что казалось ему нелогичным, он решительно отвергал. Ничто не могло его переубедить. Перемена эта была так внезапна, что жена не скоро привыкла к ней.
Особенно ее донимали новые интонации в голосе мужа. Так настойчиво было их звучание и настолько непререкаемой казалась их власть, что Анна Ильинична но могла им противостоять… Утратив свое влияние на мужа, она недолго тешилась и покорностью сына. Внешне послушный и вежливый, он все больше отходил от нее. Ей казалось, что она еще крепко держит сына в руках, но это была лишь его внешняя оболочка…
* * *
В то трудные годы еще больше сблизились Спиридон и Каминский. Арон Вульфович прибыл в Одессу с молодой женой — прежней подругой Анны Ильиничны. Первое время они жили у Свиридовых, затем переселились этажом ниже. Друзья благополучно окончили институт, один стал физиологом, другой — ботаником-гидробиологом. Оставленный при кафедре, Арон Вульфович обратил на себя внимание своей работой о механизме сокращений сердца. Профессура решительно отвергла исследование, но тем не менее отметила его оригинальность и трудолюбие автора. Клиницисты, наоборот, утверждали, что новая теория объяснила им многое из того, что прежде было непонятно.
Неожиданно для окружающих Каминский оставил кафедру и стал больничным врачом. Вскоре он увлекся гомеопатией, ушел из больницы и стал частнопрактикующим врачом. После каждой такой перемены Арон Вульфович уверял, что пришел, наконец, к своей цели, сурово осуждал недавнее увлечение, высмеивал то, чему поклонялся, вновь вскоре остывал и начинал грезить о другом. Напрасно Свиридов пытался понять своего друга, уяснить себе смысл этих перемен. Каминский либо не отвечал на вопросы, либо отделывался шуткой:
— Я не честолюбив, что мне кафедра и даже профессура, — с притворной веселостью говорил он, — я равняюсь по Вильгельму Конраду Рентгену. Он пренебрег графским титулом, Нобелевскую премию отдал на научные цели и не пожелал взять патент на свое открытие.
Свиридов так и не узнал, что побудило его друга уйти из института, сменить научную деятельность на врачебную и заняться гомеопатией.
То, что казалось загадочным Свиридову, не представляло секрета для его жены. Ей все было ясно, хотя Каминский не сразу ей все рассказал.
Когда он оставил работу в институте, а затем ушел из больницы, она явилась к нему, усадила его рядом с собой и, повернув ключ в дверях, строго сказала:
— Ты не выйдешь отсюда, пока не ответишь: чего ты мечешься? Почему на месте не сидишь?
Он не мог сказать ей правды, слишком тягостна она была. Есть люди, чьи душевные раны не дают им забыться. Ни друзья, ни любимый труд не могут вернуть им покоя. Они мечутся среди людей от одного к другому, из города в город, тянутся за опорой, за утешением и лаской. Порой их души словно осенит покой, вернется надежда, а с ней и вера в то, что несчастья навсегда миновали. Увы, за короткой передышкой приходит вновь суровый час, а с ним и горькое чувство одиночества. Снова бегство от себя, мучительные поиски, чтобы снова ни с чем вернуться к себе.
— Не сидится мне, Аннушка, на месте, — ответил ей шуткой Каминский, — душа жаждет новизны.
Она окинула его насмешливым взглядом и, повертев пальцем вокруг головы, дала ему понять, что там у него не все в порядке.
— Ничего удивительного, — с горькой улыбкой подтвердил он ее подозрения, — все величественное рушится сверху. Тополь сохнет с вершины.
Она не удостоила вниманием его остроту и дословно повторила вопрос.
— Я иначе не могу, не спрашивай меня, — небрежно ответил Каминский.
Анна Ильинична поняла, что ничего от него не добьется, и, голосом, полным укоризны и сочувствия, сказала:
— Зачем ты усложняешь свою жизнь? К чему тебе лишние испытания?
— Ничего, Аннушка, — с притворным самодовольством усмехнулся он, — я к ним привык и не новичок, стаж у меня изрядный. В девятьсот пятом году мать прятала меня от погромщиков, в тринадцатом меня этапом выпроводили из Севастополя, в шестнадцатом те же неполадки с правожительством и прогулка этапом из Галиции. За мной охотились белые, зеленые, махновцы, григорьевцы, Гитлер и Геринг — всем хотелось мне досадить… Я к испытаниям привык.
В Одессе с Каминским произошла новая и неожиданная перемена. Куда делась его элегантная внешность? Некогда щегольски сшитый костюм утратил свое изящное обличье и висел на нем мешком. Серая шляпа приобрела землистый оттенок, измятые поля непокорно лезли вверх. Прежний Арон Вульфович, поборник хорошего топа, жестоко посмеялся бы над подобной неряшливостью. В довершение всего его расслабленная походка подчеркивала хромоту, которую он обычно скрывал.