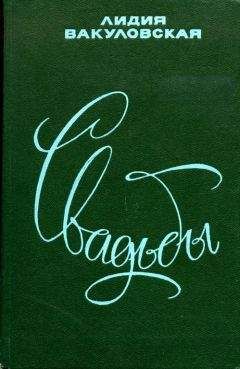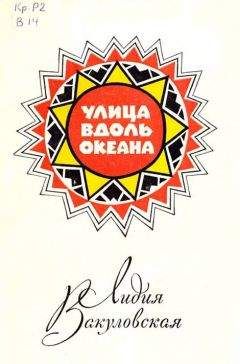Лидия Вакуловская - 200 километров до суда... Четыре повести
Таюнэ он нашел за сараишком. Устроившись на куче хвороста, она смазывала нерпичьим жиром капканы, готовила их к зимней охоте.
— Смотри, что я тебе принес. На, держи, — сказал Шурка, торжественно вручая ей букетик.
Таюнэ недоуменно поглядела на цветы, на Шурку, не зная, зачем ей нужно брать их. Шурке же показалось, что она смутилась, тронутая его вниманием. Ему и самому стало как-то неловко.
— Бери, бери, — сказал он, подавая ей цветы. — Ну что, красивые?
— Нет красиво, — сказала Таюнэ, положив букетик на хворост. — Большая цветок красиво, такая нет.
— Да ты понюхай, они же пахнут, — возразил Шурка и поднес букетик к лицу Таюнэ. — Чувствуешь, как липой пахнет?
Таюнэ поморщилась, брезгливо отвела от себя Шуркину руку.
— Нет красиво, — повторила она. — Большая цветок красиво.
— Ни черта ты не чувствуешь! — с досадой сказал Шурка и, зашвырнув букетик за сараишко, пошел к реке умываться.
Таюнэ увидела, что он рассердился, и, догнав его, спросила:
— Василя сердита, да? Зачем Василя сердита Таюнэ?
— Отстань, — грубовато сказал Шурка. — Иди смазывай жиром свои капканы.
Утром Таюнэ разбудила его веселым криком:
— Вставала, вставала, Василя! Зима ходила! Снег много-много. Скоро-скоро встала!
Она растормошила его, потянула за руку к распахнутой двери.
Чистый, ослепительный свет ударил Шурке в глаза. Вчерашней тундры как не бывало: ни земли, ни кустов, ни травы, ни черных сопок — все выбелил снег. Он шел всю ночь и толстым слоем выстелился от горизонта до горизонта, — от него сладковато пахло не сухой и морозной, а весенней, талой свежестью.
— Кра-си-во, да? — выдохнула Таюнэ, поводя вокруг шальными, захмелевшими глазами.
Но Шурка не оценил красоты изменившегося пейзажа.
— Черт-те что — зима в сентябре! — сердито сказал он, сплюнув на чистый снег. И подумал, что теперь ему не вырваться из этой избушки, пока не ляжет настоящая зима.
— Кра-си-во!.. — пьяно повторила Таюнэ и шагнула с порога в глубокий, по колено, снег.
— Постой, где лопата? Сейчас раскидаю, — недовольно остановил ее Шурка и, сунув ноги в стоявшие возле дверей валенки, побрел в сараишко за лопатой.
Покончив с этой работой, Шурка отнес лопату на место, разделся до пояса и, пофыркивая и покрякивая от удовольствия, стал растирать снегом лицо, шею, грудь. Снег податливо таял в тепле рук, водой растекался по телу. Таюнэ с немым восторгом наблюдала за ним. Никогда до этого она не видела, чтобы чукотские или эскимосские парни умывались так, как умывался Шурка.
Когда Шурка ушел в избушку одеваться, она забежала за сараишко, стряхнула с плеч керкер и умылась, растерлась до пояса первым снегом, так же пофыркивая и покрякивая, как это делал ее муж.
8
Бывает в жизни человека такой перелом, когда все прошлое непомерно отдаляется, когда кажется, что все, что было, было не с ним, а с кем-то другим.
Так случилось и с Шуркой. Он все реже вспоминал лагерь, разгуливавших на свободе друзей-приятелей, шумные города и свою воровскую жизнь. А если и всплывали в его памяти лица прокурора и следователей, картины суда, допроса, обыска, топот погони по ночной мостовой и выстрелы в воздух, то тот Шурка Коржов, участник всех этих событий, представлялся нынешнему Шурке Коржову, человеком каким-то нереальным, о чьих похождениях нынешнему Шурке кто-то давно и, похоже, шутя рассказывал.
Память все чаще стала уводить его в мир забытого детства.
Странный был тот мир. По утрам его будили солнечные зайчики, а у кровати нетерпеливо била копытами рыжая лошадь, готовая в любую минуту понести его в бой на буржуев. По дороге в бой он отсекал острым мечом головы Змею-Горынычу, побеждал где-то в облаках Синюю Бороду и бродил по немыслимым замкам с лампой Аладдина.
Еще в том мире, среди чародеев, Коньков-Горбунков и Деда Мороза, жили молоденькая девушка — мама Зоя и высокий парень — папа Костя. И все прекрасные царевны, о которых рассказывала мама Зоя, были похожи на нее, а все храбрые богатыри были похожи на папу Костю, хотя прекрасная царевна — мама Зоя — вместо того, чтобы весь день петь и играть на арфе, убегала с утра в школу учить детей, а храбрый богатырь — папа Костя — вместо меча или секиры носил в руках большой портфель и трубки ватмана под мышкой.
Как ни напрягал Шурка свою память, в ней сплошь зияли провалы. Он не мог установить, когда раскололся мир солнечных зайчиков. Может, тогда, когда настоящие лошади, запряженные в катафалк, повезли по улицам маму Зою, а он (нет, не он, а какой-то другой, смутно припоминаемый мальчишка!) раздирал в улыбке рот, радуясь тому, что катит на настоящих лошадях и что рядом играет настоящий оркестр? А может, когда в дом пришла другая мама — мама Вера и кровать мальчишки перекочевала от окна, где плясали солнечные зайчики, за темный шкаф? Или когда папа Костя привязал к чемодану длинные трубки чертежей и уехал куда-то строить какую-то фабрику? А возможно, это случилось в тот момент, когда мама Вера, плача, сказала соседкам, что ее Костю унесла малярия, а потом, надев на мальчишку новенький матросский костюм, отвела его в детдом, а сама ушла навсегда? Или когда его жестоко избили старшие детдомовцы (таков был закон!) и он убежал, а потом шатался голодный по городу, пока не набрел на толпу людей возле кинотеатра и не вытащил, деревенея от страха, из чьего-то кармана скомканную рублевку?..
Впрочем, Шурка и не пытался установить, в какой именно день и час уплыл от него мир солнечных зайчиков.
И вот теперь в Шуркиной душе неожиданно ожил этот волшебный мир. В него вошла мать, принесла с собой свои сказки и какой-то голубой свет, который когда-то переполнял его детство…
А в тундре тяжелым медведем ворочалась зима, то разъярялась, то укрощалась опять. Солнце пропало, ночь прогнала с земли день, и лишь в полуденные часы скупо пробивалось жалкое подобие рассвета. Неделями трубили пурги. В снежной замяти сливались небо и земля. Ветры яростно накидывались со всех сторон на избушку, норовя разнести ее в щепки и расшвырять их по заснеженной равнине.
В дни, когда из избушки нельзя было высунуть носа, Шурка часами просиживал на шкурах, обучая Таюнэ грамоте, или рассказывал ей сказки, внезапно ожившие в его памяти.
Таюнэ оказалась смышленой ученицей. Она быстро запоминала слова, легко схватывала произношение, только никак не могла пока совладать с падежами и местоимениями. Приезжая в село, она демонстрировала свои знания где придется: громко перечитывала в магазине этикетки с названием товаров, афиши на бревенчатой стене клуба, надписи на спичках, пачках галет и печенья, заголовки в подшивке «Правды», лежавшей на виду в правлении колхоза. И тем самым вызывала одобрительные возгласы и продавщицы Катерины Петровны, и председателя Айвана, и учительницы Оли.
Но больше всего Таюнэ любила сказки. Она впитывала их в себя с чисто детской наивностью и, слушая, то пугливо охала, то заливалась смехом, то каменела от страха, то улыбалась счастливому концу.
— Еще говори, — просила она Шурку, когда сказка кончалась. — Новую говори.
— Да я новых не знаю, — отвечал он.
— Тогда опять про белый лебедь говори, — не успокаивалась она.
— Ладно, — соглашался Шурка. И в сотый раз начинал:
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, —
Говорит одна девица, —
То на весь крещеный мир
Приготовила бы пир»…
Шурка помнил начало некоторых сказок Пушкина, дальше он пересказывал прозой, а в других сказках многое добавлял и от себя.
— Зачем сына в бочку садили? Зачем в море пускали? — шепотом спрашивала Таюнэ.
— Гады они были, ткачихи-поварихи, заразы подходящие, — объяснял Шурка.
В одной сказке (Шурка придумал ее сам) храбрый богатырь попадал в такой высокий город, что звезды там лежали на крышах домов, а башня, где засело вражье войско, насквозь пронзала шпилем солнце. И деревья там были такие, что их макушки, как метлы, подметали небо, разгоняя тучи и облака.
— Ты тоже такой город живош? — спросила Таюнэ.
— Нет, тот поменьше, — ответил Шурка, представив себе почему-то в эту минуту Киев. — Но дома там, будь здоров, попадаются! Этажей на семь-восемь.
— Большие, как сопка?
— Разные, которые больше, которые меньше, — сказал Шурка и, увидев, что Таюнэ закрыла глаза, спросил: — Спать хочешь?
— Нет, я так хорошо много-много твои дома вижу, — тихонько ответила она, не открывая глаз.
— Подожди, вот двинем туда с тобой, приколемся в каком пункте, к морю поближе, — сказал Шурка. И размечтавшись, продолжал: — Пойдешь ты у меня учиться, доктором или еще кем станешь. И заживем, не пропадем. Я тоже шестерней при тебе мотаться не буду. Пойду, скажем, в боцманы. Милое дело — палуба ходуном ходит.