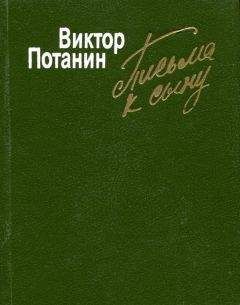Виктор Потанин - Северный ветер
— Баба, наша русская баба не может бросить мужа в увечье. Здорового — может, сгульнуть, если невтерпеж, — может, а калеку и сироту спокинуть — нет! Потому как баба наша во веки веков — человек! И вы, молодцы, худо про них не думайте. А твоя вот, твоя, — обратился он к Славику, — да она в огонь и в воду за тобой...
— Дайте я вас поцелую!.. — пьяненько взревел Славик и притиснулся к Сергею Митрофановичу. А ему захотелось погладить Славика по голове, да не решился он это сделать, и лишь растроганно пробормотал:
— Ребятишки вы, ребятишки! Так споем, что ли, орел? — обратился он к Володе. — Детишек в вагоне нету?
— Нету, нету, — загалдели новобранцы. — Почти весь вагон нашими занят. Давай, батя!
По голосам и улыбкам ребят Сергей Митрофанович догадался, что они его считают совсем уж захмелевшим и ждут, как он сейчас затянет: «Ой, рябина, рябинушка» или «Я пулеметчиком родился и пулеметчиком помру!».
Он едва заметно улыбнулся, поглядев сбоку на парней, и мягко начал грудным, глубоким голосом, так и не испетым в запасном полку на морозе и ветру, где он был ротным запевалой.
Ясным ли днем,
Или ночью угрюмою...
Снисходительные улыбки, насмешливые взгляды — все это разом стерлось с лиц парней. Замешательство, пробуждающееся внимание и даже удивленность появились на них. Все так же доверительно, ровно бы расходясь в беседе, Сергей Митрофанович повел дальше:
Все о тебе я мечтаю и думаю...
На этом месте он полуприкрыл глаза и, не откидываясь, а со сложенными в коленях руками, сидел, чуть ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном, и совсем уж тихо, на натянутой какой-то струне, притушив готовый вырваться из груди крик, закончил вступление:
Кто-то тебя приласкает?
Кто-то тебя приголубит?
М-милой своей назовет?..
Стучали разбежавшиеся колеса, припадая на одну ногу, жужжало над крышей вагона, и в голосе его, без пьяной мужицкой дикости, но и без лощености, угадывался весь характер, вся его душа — приветная и уступчивая. Он давал рассмотреть всего себя оттого, что не было в нем хлама, темени, потайных закоулков. Полуприщуренный взгляд его, смягченный временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое дается людям, познавшим ожесточение и смерть, пробуждал в людях светлую печаль, снимал с сердца горькую накипь житейских будней. Слушая Сергея Митрофановича, человек перестал быть одиноким, ощущал потребность в братстве, хотел чтоб его любили и он бы любил кого-то.
Не было уже перед ребятами инвалида с осиновой деревяшкой, в суконном пиджаке, в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Залысины, седые виски, морщины, так не идущие к его моложавому лицу, и руки в царапинах и темных проколах — уже не замечались.
Молодой, бравый командир орудия, с орденами и медалями на груди виделся ребятам.
Да и сам он, стоило ему запеть эту песню, невесть когда услышанную на пластинке и переиначенную им в словах и в мотиве, видел себя там, в семье своего расчета, молодого, здорового, чубатого, уважаемого не только за песни, но и за покладистый характер.
Еще ребята, слушавшие Сергея Митрофановича, изумлялись, думали о том, что надо бы с таким голосом и умением петь ему не здесь. Они бывали в оперном театре своего города, слышали там перестарок-женщин и пузатеньких мужчин с жидкими, перегорелыми голосами. Иные артисты не имели вовсе никаких способностей к пению, но как-то попали в оперу и зарабатывали себе хлеб, хотя зарабатывать его им надо было совсем в другом месте.
Но в искусстве, как в солдатской бане, — пустых скамеек не бывает! Вот и поет где-то вместо Сергея Митрофановича безголосый, тугой на ухо человек. Он же все, что дармово, не трудом добыто, ценить не научен, стыдливо относится к дару своему и поет, когда сердце просит или когда людям край подходит и они нуждаются в песне больше, чем в хлебе, поет, не закабаляя своего дара и не забавляясь им.
Никто не разбрасывается своими талантами так, как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на ямщицком облучке, в солдатском строю, в пьяном застолье, в таежном одиночестве позатерялось в российской глухомани? Кто сочтет?!
Только случай, только слепая удача зачерпнет иной раз из моря русских талантов одну-другую каплю...
...Незадолго до того, как погибнуть расчету Сергея Митрофановича, по гаубичной батарее шарился лейтенантик с бакенбардами — искал таланты. В сорок четвертом году войско наше уже набрало силу — подпятило немцев к границе, и все большие соединения начали обзаводиться ансамблями. Повсюду смотры проходили. Попал на смотр и Сергей Митрофанович, тогда еще просто Сергей, просто товарищ сержант, прошедший служебную лестницу от хоботного до хозяина орудия.
Смотр проводился в западноукраинском большом селе, в церкви, утонувшей в черных тополях, старых грушах и ореховых деревьях.
На передней скамье сидели генералы и полковники. Среди них был и командир бригады, в которой воевал Сергей Митрофанович.
Когда сержант в начищенных сапогах напряженно вышел на паперть, командир бригады что-то шепнул на ухо командующему корпусом. Тот важно кивнул в ответ и с интересом поглядел на молодецкого вида сержанта с двумя орденами Славы и медалями на груди.
Сергей Митрофанович пел хуже, чем при своих солдатах, очень уж волновался — народу много набилось в церковь, и голос гулко, ровно бы в доте, разносился под сводами церкви. Однако после популярных фронтовых песенок: «Встретились ребята в лазарете, койки рядом, но привстать нельзя, оба молодые, оба Пети...» или «Потеряю я свою кубанку со своей удалой головой», после всех этих песенок его «Ясным ли днем» прозвучала так неожиданно, так всех растрогала, что сам командир корпуса, а следом за ним генералы и полковники хлопали, не жалея ладоней.
«Поздравляю! Поздравляю!» — тоже хлопая и пятясь в алтарь, восторженно частил лейтенантик с бакенбардами, главный заводила всего этого смотра фронтовых талантов.
Быть бы в корпусном ансамбле Сергею Митрофановичу, быть бы с ногой, быть бы живу-здорову, детишек иметь и не таскаться на врачебные комиссии, работать бы ему по специальности, а не пилоправом.
Да к массовому культурному мероприятию высшее начальство решило приурочить еще мероприятие воспитательное: в обеденный перерыв на площади возле церкви вешали человека — тайного агента гестапо, как было оповещено с паперти тем же лейтенантом с бакенбардами.
Народ запрудил площадь. Гражданские и военные перемешались меж собою. Большинству фронтовиков-окопников не доводилось видеть, как вешают людей — суды и расправы свершались позади них, на отвоеванной земле.
Зафыркал ЗИС, новый, маскировочно покрашенный в зеленые полосы. Народ пугливо расступился перед радиатором машины, целившейся под старую срубленную грушу, на которой осталась макушка с плодами и толстый сук. К суку привязана веревочная петля.
Поднимались люди на цыпочки, чтобы увидеть преступника, а главное — палача.
Живых палачей Сергей Митрофанович тоже еще никогда не встречал. Предполагал, что выйдет сейчас из церкви, из густых дерев волосатый, рукастый человек и совершит свое жестокое дело. И когда в машину, подпятившуюся кузовом под грушу, запрыгнул молодой парень в перешитых на узкий носок кирзовых сапогах, в несопревшей от пота гимнастерке с белым подворотничком и со значком на клапане кармашка, он все еще ждал, что вот сейчас появится палач, какого он не единожды видел в кино, узколобый, с медвежьими глазами, в красной рубахе до пят.
Парень тем временем открыл задний борт машины. Площадь колыхнулась. Возле кабины, затиснувшись в уголок кузова, сидел клочковато бритый мужичонка в ватных штанах, в телогрейке, надетой на нижнюю рубаху, в незашнурованных солдатских ботинках на босу ногу.
«Вот он! Вот он, гад! Шоб тоби... Ах ты, душегуб!..»
«Где он? Где он?» — бегал глазами Сергей Митрофанович, отыскивая агента гестапо в немецкой форме, надменного, с вызовом глядящего на толпу. Как-то из подбитого танка взяли артиллеристы раненого командира машины, с тремя крестами на черном обгорелом мундире. Голова его тоже вроде как обгорела, лохматая, рыжая. Он пнул нашу медсестру, пытавшуюся его перевязать. Тайный агент гестапо в понятии Сергея Митрофановича должен был выглядеть куда большим злодеем и громилой, чем эсэсовец-танкист.
Военный парнишка в кузове вел себя хозяйственно. Он, перевалившись через борт, командовал шоферу, показывал рукою: «Еще! Еще! Еще! Стоп!» — и навис над мужичонкой, что-то коротко приказал ему. Тот попытался подняться и не смог. Тогда парень подхватил его под мышки, притиснул спиной к кабине и, придерживая коленом под живот, попытался надеть на него петлю. Веревка оказалась короткой и налазила только на макушку. Мужичонка все утягивал шею в плечи, и тогда парень задрал рукою его подбородок, как задирают морду коню перед тем, как всунуть в его храп железные удила. Веревка все равно не доставала.