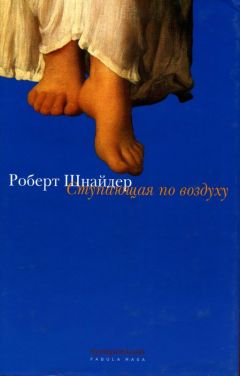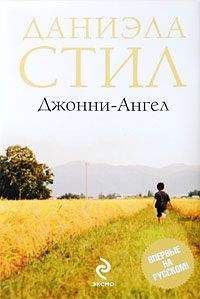Анатолий Соболев - Награде не подлежит
— Нет, злой, — повторила Люба. — Взглянет — ровно вилами тычет. Откуда он родом?
— С Урала.
— Вот поедет домой, девок перепятнает. — Она зябко поежилась. — Так, говоришь, могу я дровишек взять?
— Берите.
— Вот спасибо. Побегу я. Спать уж пора. — Она размягченно, со слезой, зевнула.
Люба ушла, и Костя остался один. Курил и думал: как странно все — день назад еще был он в госпитале, а сегодня уже и День Победы, и утопленника доставал, и вот с Любой сидел, хотя только утром с ней познакомился.
Ветер с залива усилился, стало зябко. Шум победного дня стихал. Отрыдала гармонь, отплясался и отплакал люд, наступала первая мирная ночь, наступала новая жизнь, и какой она будет для него — Костя не знал.
Еще с весны, когда засинела первая чистая синь над землей и в разрывах серой хмари стало пробрызгивать солнышко, когда только-только вытаяли на солнечных взлобках прогалинки и закурились легким голубым парком, когда пробились на свет первые подснежники, полюбилось Любе ходить в сопки, собирать ранние цветы с беззащитными прозрачно-фиолетовыми лепестками и желтыми крошечными тычинками. «Миленькие мои, — шептала она и нежно гладила холодные, в серебряных каплях подснежники, вдыхая их свежий запах. — Родненькие мои, трудно вам здесь на краю света. Чем помочь вам?» И дышала на них, отогревая своим дыханием. Замирала посреди полянки, где со всех сторон доверчиво смотрели на нее светло-фиолетовыми в желтых ресницах глазами подснежники, будто малая ребятня на мамку. Ишь, навострили уши! Вон сколько их вытаяло! Прям из ничего появилась вдруг жизнь и красота!
Бродила в сопках Люба, мечтала о счастье, как в юности, или по-бабьи тужила, что вот уж и третий десяток у нее на исходе. Пыхнуло утренней зорькой девичество и пропало невесть куда, будто и не было вовсе, будто во сне привиделось. И оглянуться не успела, как налилась бабьей силой, раздалась в кости, а давноль лозинкой тонкой качалась, и в поясе четырьмя пальцами обхватить можно было, и коса была длинна, как лошадиный хвост, да улетели юные годочки из горсти, золотым дождем просыпались на землю, и девчоночья коса давно уже отрезана...
Все здесь было ей в диковинку, хотя жила она на Севере второй год. Жила, а все никак не могла привыкнуть, что когда летом ночь и надо быть темноте и звездам — медленно катит по небу низкое блеклое солнце, а родниково-чистый воздух серебристо светится и на сопках, на заливе лежит задумчивая тишь. И в этой прозрачной тишине, на открытых местах спят жилистые березки, изогнутые свирепыми арктическими ветрами, зеленеет жесткая трава, расстилается бесшумно-податливый мох, в котором утопает нога. И зовет куда-то эта даль, в какие-то счастливые края, где сбываются мечты, где человеку легко и отрадно...
В такие вечера Люба отдыхала еще и от преследующих глаз молодых и сильных парней. Юнцов, вроде Кости Реутова и его дружков, она в расчет не брала, а вот такие, как Вадим... Этот глядит, будто донага раздевает. И она почему-то боится его, что-то в нем есть, холодинка какая-то, и это пугает. Чуяла: тут ухом не зевай и глазом дозорь!
Не раз уж он захаживал к ней в комнату, придумав какое-нибудь заделье, тары-бары разводил, правда, не охальничал, но все думки его, все помыслы на лице были написаны. Ох, видать, не к одному девичьему сердцу размел он дорожку своими клешами да ленточками с якорями! И знала, чуяла она, что просто так он не отступится, не из тех. И потому была начеку, держала ушки на макушке.
И все же перехватил он ее в сопках. Как из-под земли вырос. У нее сердце оборвалось, хотя и неробкого десятка была.
— Гуляешь? — улыбнулся он.
— Гуляю, — ответно улыбнулась Люба, а сама зырк-зырк по сторонам — нет ли где живой души, случь чего на помощь звать.
— Я вот тоже.
— Ну пойдем вместе, домой уж пора. — Люба думала решить все мирно.
— Куда торопиться-то. Что у тебя, семеро по лавкам бегают?
— Устала за день, ноги не держат.
— Не держали бы — по сопкам не ходила, — все еще не отпуская с лица улыбки, сказал он.
— Да я вот за веточками только.
Люба показала на букетик из тонких красноватых прутиков, усыпанных крохотными зелеными листочками. А сама опять повела глазом по сторонам: в узком месте перехватил он ее.
— Не бойся, — усмехнулся Лубенцов, поняв ее взгляд.
— Я и не боюсь. Что ты — зверь, что ль!
— Не зверь — это точно. А бояться — боишься, вижу.
Люба поняла, что долго так разговаривать нельзя, надо идти. И шагнула. Он преградил дорогу. Люба оробела.
— Спросить хочу: что ты меня избегаешь?
Люба набралась духу, знала — обидит его:
— Не держи на меня сердца, Вадим. Не ту тропинку топчешь.
Лубенцов потемнел лицом, сдвинул брови, и Люба безотчетно отметила, что красив он. Высок, да строен, да ладно скроен. Плечами бог не обидел. И волос темнее ночи, и брови черные вразлет. Сверкнет глазом из-под них — огнем прожжет. Другая за честь посчитала бы, а у нее вот не лежит душа. Чем-то похож он был на того, кто надсмеялся над ней тогда, давно уж теперь. Может, поэтому и не могла принять она ухаживания Лубенцова.
— За правду сердца держать не стану, — хмуро сказал Лубенцов. — Только какого принца ждешь? Чего ты ломаешься? Не девка ж, я думаю, — усмехнулся он.
— Не девка, — вспыхнула Люба. — Давно, уж не девка, Вадим. И принца мне не надо. Где он — принц?
Он вдруг крепко взял ее за руку. Люба почувствовала его силу и напряженность.
— Не трожь, Вадим. Не дамся, — тихо сказала она.
Лубенцов понял — не дастся. Отпустил руку. Глухо обронил:
— Иди. Иди от греха подальше.
Люба пошла, еще не веря, что отпустил ее Вадим, и чувствуя плечами его взгляд. Чутко слушала спиной: если шагнет за ней — она побежит.
Только в бараке, у себя в комнате, перевела дух. Счастливо отделалась, можно сказать. Он же здоров, как бугай. У него плечи вон какие крутые и шея столбом. У неё и сил-то не хватило б. Перепугал все же ее — до сих пор поджилки трясутся. «Мичману пожалиться? — подумала Люба, но тут же усмехнулась. — Что он, мичман-то, отец ему, что ли».
Увидела в окно, как от причала идут уставшие водолазы — вторая смена кончилась. Костя Реутов, шаркая подошвами сапог и наклонив непокрытую русоволосую голову, молча слушал что-то говоривших Хохлова и Дергушина. И столько было во всей его фигуре усталости и отрешенности, что будто шел он один и никого рядом с ним не было.
Люба вдруг вспомнила, как в один из вечеров Лубенцов, сидя у нее, рассказал про Костю Реутова. Она ушам своим не поверила. Неужто такое стряслось с этим мальчиком! «Все мы по краю ходим, — намекнул тогда Вадим. — Со всяким из нас может случиться». Люба понимала: он тогда на жалость бил. Есть такой прием у мужиков — разжалобить бабу, а самому своего добиться. Уж она-то знает это. И Люба не поверила ему, думая, что это он так, для туману. А сейчас, глядя на отрешенно молчавшего Костю, — поверила.
Но мысль про Костю мелькнула и пропала, как только прошли водолазы, и Люба опять зябко повела плечами, вспомнив пристальный взгляд Лубенцова. Опять подумала, что жизнь ее теперь осложнилась. Всякий раз с ней такое бывает. Куда ни приедет — мужики липнут, как мухи на мед...
Люба видела, как Вадим вернулся из сопок, прошел мимо ее окна, не повернув головы. А ей вдруг жаль стало его, что вот невольно причинила боль. Но ведь сердцу не прикажешь...
Не спалось.
Сидела Люба у раскрытого окна, смотрела на холодный блекло-синий залив, похожий на огромную лужу снятого молока, на каменистые сопки противоположного берега, и чувство одиночества и затерянности на краю земли вновь охватило ее. Жалость к себе заполнила сердце, жалость к своей нескладной жизни, к своей ломаной судьбе. Что она видала за свой век? А ничего! Все работала да горе мыкала. И не к кому было прислониться душой, погреться у огонька, по-бабьи, со слезой, пожаловаться, зная наперед, что тебя поймут, обласкают, найдут целебное слово. Все сама да сама, все сильной надо быть, а так хочется, чтобы кто-то позаботился о тебе, так хочется побыть слабой, зная, что рядом друг, защитит, не даст в обиду.
Как нескладно сложилась ее жизнь! В девках, на покосе, изнасиловал ее деревенский кузнец, имевший уже троих детей. Руки накладывала на себя, но успели вытащить из омута. Кузнец потом валялся в ногах, валялась и жена его, хворая, молили пожалеть детишек, не доводить дело до суда. Сжалилась Люба, не лишила троих сопливых девчонок кормильца. Уехала в город, подальше от стыда, от молвы. Уехала с замороженным сердцем, и весь свет был черен. Нанялась на стройку разнорабочей, таскала по этажам кирпичи, жилы вытягивала. И все казалось попервоначалу, что знают товарки о ее стыде, молчат только, случая ждут на смех поднять.
Скоро ли, долго ли, а обжилась она в большом городе, пообтерлась, побойчее стала. И уж никто из своих деревенских не узнал бы в шустрой востроглазой работнице стройки когда-то тихую, по-сельски застенчивую Любу.