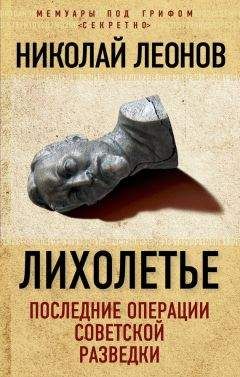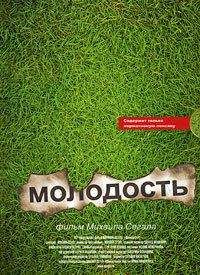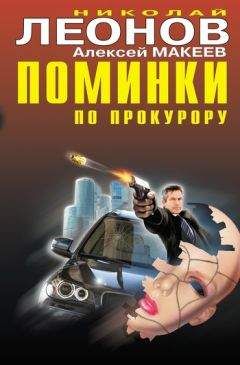Савелий Леонов - Молодость
— Пр-рошу слова! — напирая по-кавалерийски на «р», долетело издали.
Сквозь толпу протискивался моложавый человек в белой косоворотке и синих офицерских галифе, заправленных в коричневые краги. Он был среднего роста, плотный и румяный, с черненькими усиками. Смоляные волосы гладко зачесаны назад.
Что-то напоминало в нем ловкача-барышника, самоуверенного проныру, знавшего себе цену и умевшего на ходу оценить любой товар.
— Клепиков! Клепиков! — пронеслось по толпе. Клепиков — прямо с дороги. Он прискакал верхом на взмыленной лошади и остановился у Бритяка. И хотя эсеровский главарь частенько наведывался в Жердевку, имея дела с Афанасием Емельяновичем и присватываясь к Аринке, теперь его посещение насторожило селян.
Краснорожий, губастый Глебка, сын Волчка, в желтой японского сукна гимнастерке, услужливо подставил приезжему табуретку. Клепиков легко вскочил на нее, пошатнулся, но удержал равновесие. Начал громко, внятно, самоуверенно:
— Товарищи! Сущность текущего момента ясна. Находясь в приграничной полосе с оккупированной немцами Украиной, мы первые становимся жертвой политической игры… Германия требует еще три губернии. Что же привело нашу державу к таким чудовищным и позорным уступкам?
— А кто же уступает? — спросил Степан, рассматривая оратора в упор.
Клепиков быстро сообразил, откуда можно ждать серьезного противодействия. Степан ему сразу не понравился Своей осведомленностью и боевым, обстрелянным видом.
«Большевик! — решил он про себя. — Житья не стало… Куда ни повернись — везде большевики!»
Клепиков вспомнил поражение на съезде и повел речь осторожнее, присматриваясь к людям и нащупывая почву. Он упрекал коммунистов за монополию, за продразверстку.
— Мы, «левые» эсеры, не допустим проведения этих декретов в жизнь! — воскликнул Клепиков. — Мы будем бороться! Мы пойдем рука об руку с теми, кому большевики грозят опустошить закрома, — с трудовиками!
— Как ни приноравливай кулак к глазу, все равно синяк будет, — заметил Степан, улыбаясь.
Клепиков злобно умолк… Пытаясь расстегнуть косоворотку, с треском оборвал пуговицы.
Это настолько не вязалось с его высокомерием и заносчивостью, что сход громыхнул раскатистым смехом. Гранкин прослезился, всхлипывая от восторга. Хохотал Огрехов, закатывался Чайник, весело скалил зубы Николка, очутившийся впереди. Даже Роман Сидоров, осторожный и степенный мужик, с пепельно-серой бородой, ухмылялся в сторонке. А черномазый кузнец Алеха Нетудыхата, окруженный четырьмя сыновьями-молотобойцами, крикнул Клепикову:
— Мы, паря, синяки-то и сами горазды сажать!
— Ничего, старики, — Степан поднялся, отстранил ногой освободившуюся табуретку, словно зачеркнул выступление эсера. — Теперь на нашей улице праздник. Работенка предстоит горячая, да нам не привыкать. Эта жизнь — без хлеба на столе, без рубашки на спине — никогда не забудется, но и не вернется! Революция землю дала, станем на нее покрепче! В командиры — кого посмелей! У смелого сорок дорог, а у труса — одна, и по той волки бегают.
Он говорил, не торопясь, нажимая на каждое слово. Каждая мысль его была взвешена и выстрадана сердцем.
Жердевцы притихли, досадуя на разыгравшихся в воздухе ласточек.
— Фронт не только на Мурмане, в Сибири, на Украине, — продолжал Степан, окидывая взглядом деревню. — Фронт — в Жердевке! Декрет о комбедах — верная наша опора. Стало быть, товарищи, первое дело — комбед! Выбирайте ребяток позлее, натерпевшихся от кулачья. А там увидим. — И глаза его потемнели.
«Ох, грехи тяжкие, — завозился Бритяк, — с эдаким дьявольским видом под мостом стоять… А он законы вычитывает, босяк, лыковая душа».
Расправив подстриженные усы, он вызывающе бросил:
— Знаем ваш комбед! Слыхали про эту самую власть деревенских лодырей…
— Ага-а! — крикнул Гранкин, упираясь руками в стол. — Спасибочко. Нам-то и невдомек, что беднота — значит, лодыри!
Он спрыгнул со скамьи на свои обрубки, пунцовый от нестерпимой обиды и злобы. Расталкивая людей, схватил Бритяка за грудь голубой сатиновой рубахи.
— Думаешь, христопродавец, опять словчить? В глаза дыму пускаешь, чтобы не растрясли твою воровскую мошну?! Врешь, отошла коту масленица! Прочь отсюда, душегуб! Долой, контра!
Толпа содрогнулась.
— Долой!
— Кулацкая харя!
— Хапун! Дать ему раза!
Клепиков, желая отвлечь внимание свирепевшей толпы от Бритяка, снова взобрался на табуретку, но кто-то выдернул ее из-под ног.
Над местом схода заклубилась бурая пыль.
Николка уже растаскивал ближайшую изгородь, вооружая тех, кто понадежнее, увесистыми шестами.
— Эй, сердечный, дай-ка и мне посошок! — подскочил Чайник. — Ломать — не строить, сердце не болит…
Волчков сын Глебка и Ванька Бритяк предусмотрительно сбегали домой, оставив трехрядки, и вернулись, краснорожие, решительные — один с артиллерийским тесаком под полой, другой с браунингом в кармане.
Степан увидел отца. Тимофей как бы плыл в толпе, двигая простуженными ногами. Глубоко запавшие глаза старика кого-то искали.
— Лодыри? — гаркнул он, уставившись на дрожащий подбородок Бритяка. — А на ком вы ехали, захребетники? Кого день и ночь погоняли? Знать, у вас память, вместе с совестью, к заднему месту приросла! В колья их, братушки!
Народ пошел на кулаков стеной. С колокольни посыпались грачи и галки, кружась, как листопад, над толпой.
Степан бросился к отцу:
— Стой! Куда?
— Служивый!! — Тимофей шатался от клокотавшей в нем ярости. — Ты вот первым ушел, последним вернулся… Державы завоевывал. А дома жрать нечего, стыд прикрыть нечем! Мы с тобой, вишь, не нажили! Только им, шаромыжникам, сам бог для счастья в шапку наклал… Бей, мужики, отводи душу!
Но Степан загородил дорогу, кряжистый и упрямый.
— Папаша! У нас законная власть — давить гадов… Зачем же, как бандиты?
Он укоризненно повернулся к сходу. Люди потупились, убирая шесты.
«Вот у кого царь в голове», — подумал Огрехов.
— Портной сгадит, утюг сгладит, — сказал Чайник, переводя изумленный взгляд с Тимофея на Степана.
Огрехов решительно поправил огнистую бороду.
— Комбед так комбед! Кому доверяет мир?
— Степан! Степан Жердев! — загремело со всех сторон.
— Еще?
— Гранкин. Походи, Гранкин, для общества… без кнута!
Веселый смех разогнал остатки грозы.
— Еще?
— Матрену-солдатку запишите! — с одышкой выкрикнула Ильинишна.
Во время голосования Волчок запротестовал: — Баб не считай, мальчик! От бабы толку, что от курицы песня: один грохот.
— Нашелся толковый: ходит молча, кусает по-волчьи! — потешалась Матрена в кругу товарок.
— А мадьяр? — не отставал Волчок, указывая на военнопленного Франца.
— Что мадьяр? Что тебе дался мадьяр? — окрысился Фёдор Огрехов. — Мадьяр тебе не человек? Повестка исчерпана, граждане мужики.
Был уже вечер. Раскаленный закатом солнца медленно остывал рубиновый край неба. С поля в пыльной туче двигалось сытое стадо.
Глава седьмая
На деревне заиграла гармошка. Песня качнулась, повисла в розовых сумерках:
Завивались мои кудри
От весны до осени…
А теперь мои кудри
Завиваться бросили…
«Девичья пора, что хлеб на созреванье… Не вернись я, кто бы ее осудил?» — отгонял Степан подступившую к сердцу тоску.
Он старался не думать о Насте. Но чем больше оправдывал ее, тем сильнее убеждался в невозможности примириться с этим.
Темнели у дороги остропахучие кусты бузины. В канаве, заросшей листьями мать-мачехи, разноцветно мигали светлячки… Вот здесь они прощались, и, когда ночь уронила последнюю звезду, Настя сказала:
— Люблю, Степа… Буду ждать хоть до седых волос. Степан зашагал быстрее. По переулку тянуло заревой прохладой. Встречная девушка толкнула, засмеялась:
— Не признаешься, заграничный?
Она оглянула парня с ног до головы плутоватыми глазами.
— Добрый вечер! — Степан узнал Аринку, дочь Бритяка.
— Какой там, шут, добрый! Гулять не с кем. Ребята у нас — мякина. Поганая Жердевка, сгореть бы ей к лешему! Сказывай, что ли, про иностранные страны. Ты мне не рад?
Легкий полушалок сполз на росистую траву, обнажив смуглую Аринкину шею и плечо в тонкой городской блузке. Не поднимая полушалка, девушка повела гибким станом:
— Хороша?
— Красивая, — откровенно похвалил Степан.
Ему как-то не верилось, что это действительно Аринка. Помнил ее, долговязую и озорную, быстро выраставшую из своих платьев.
Работая мальчишкой у Бритяка, Степан постоянно опасался злых Аринкиных шуток. За обедом она старалась пересолить его похлебку, а сонному подводила углем чертовы рожки.