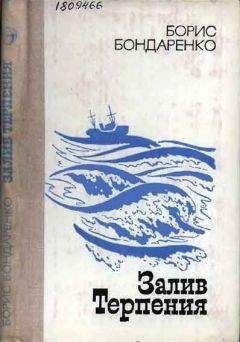Борис Бондаренко - Пирамида
Идея пришла, как всегда, неожиданно.
— Ребята, — пробормотал я, еще не веря себе, — а ведь мы ослы и кретины…
— А ты еще сомневался в этом? — спросил Ольф.
Я сунул ему под нос кулак и продолжал:
— Помнишь, что мы делали три дня назад? Когда мы писали лагранжиан пион-барионного взаимодействия…
Ольф покрутил пальцем около виска. Я схватился за ручку. Потом Ольф говорил, что у меня дрожали руки. Наверное, так оно и было. Единственное, что я тогда чувствовал, — это страх. Я очень боялся, что то едва уловимое и почти бесформенное, еще не ясное до конца мне самому, окажется такой же дребеденью, как и все остальное. Я боялся, что все исчезнет прежде, чем я успею записать. И пока я расписывал лагранжиан, старался ни о чем не думать, кроме этого, и ничего не слышать.
Ольф разочарованно протянул, глядя на мои записи:
— А-а… Ну, это старая песенка, отсюда мы не выберемся еще тридцать лет и три года.
— Подожди ты, Цицерон. Мы не заметили одну вещь. Дело в том, что здесь матрица Дирака относится к обычному пространству…
— Ну и что?
— А то, что тогда пионное поле должно описываться самодуальным антисимметричным тензором, — медленно, почтило складам сказал я.
— Стоп! — сказал Ольф. — Повтори!
Я повторил.
— А из этого следует… — начал Ольф. — А ну-ка пиши дальше, а я сделаю то же самое. Витька, следи за ним.
И он стал быстро писать. Я тоже продолжал свои выкладки и, когда закончил, перевернул лист. Я сидел, сцепив руки на коленях, и старался не смотреть на то, что пишет Ольф. Он наконец тоже закончил и спросил:
— Ну?
Я перевернул свой лист и положил рядом.
Уравнения были одинаковыми, если не считать разницы в обозначениях. Витька свистнул и пробормотал:
— Вот это финт, и я понимаю…
Я почувствовал, что мое лицо расплывается в глупой торжествующей улыбке.
— Это настолько хорошо, что даже не верится, — сказал Ольф.
Чтобы окончательно убедиться в моей правоте, нам понадобилось еще два дня. И в эти два дня мы были сдержанны, сосредоточены и очень серьезны. Даже Ольф прекратил свои обычные хохмы. Мы уже научились не доверять самым очевидным и само собой разумеющимся вещам. Мы знали, что в новом уравнении, каким бы приблизительным и ориентировочным оно ни было, надо подвергать сомнению все. Потом, при детальной разработке и исследовании этого уравнения, мы наверняка еще не раз будем ошибаться и возвращаться назад, но сейчас ошибаться было нельзя. Пусть рушится постройка, но фундамент должен быть незыблем.
Фундамент казался на редкость прочным и основательным. Было удивительное ощущение: после многих дней застоя и бесплодных попыток что-то сделать — наконец-то настоящая работа, какие-то осязаемые результаты, движение вперед, а не топтание на месте. Мы были уверены, что идем по правильному пути и нужно только время, чтобы получить что-то новое.
Никогда мы не работали так много, как в те дни. Никогда не были такими дружными, такими внимательными друг к другу. Но снова наступило время, когда мы не знали, что делать дальше. Не стало прежней уверенности. Пришла усталость. И все-таки тогда было проще. А сейчас…
Я все еще никак не мог смириться с тем, что остался один, и старался не думать о том, почему так получилось. О Викторе я уже давно не вспоминал, мы редко виделись. Но Ольф-то был рядом. И я совсем не думал про него, что он предатель. Да и Виктора я никогда не обвинял. Я понимал его. Я знал, что он когда-нибудь уйдет от нас. Он всегда чувствовал себя среди нас не совсем уверенно. За все время нашей совместной работы он не предложил ничего ценного, ни одной мало-мальски приличной идеи и очень мучился из-за этого. Даже ошибки у него были тривиальные. Но тут уж ничего нельзя было сделать. Он старался изо всех сил и работал не меньше нас, а у него ничего не получалось. Но Ольф — почему сдался он? Что происходит с ним? А что, если он прав? Тогда рано или поздно придет и моя очередь, спокойно подумал я. Тогда придется собрать все эти бумажки и спрятать куда-нибудь подальше, чтобы не попадались на глаза. И примириться с тем, что все это было напрасно. Интересно, что я тогда буду делать? Пойду играть в преферанс? Или — женюсь и буду почитывать детективы?
Стоп, стоп. Не надо думать об этом, сказал я себе. Надо работать. Ведь еще ничего не решено. Я еще не использовал все возможности. Просто надо найти ошибку. Не может быть так, чтобы все оказалось неверным. Что-то обязательно должно остаться. Ведь так уже бывало. И не раз казалось, что это все — нет никакого выхода, надо все бросать и прикрывать лавочку. Но ведь до сих пор выход всегда находился. Только не надо отчаиваться. Ведь бросить никогда не поздно. А начинать потом будет намного труднее.
И я работал до тех пор, пока от усталости не стали слипаться глаза.
Было уже два часа. Ольф все еще не приходил.
Я завел будильник и лег спать.
10Будильник звонил резко и долго, я медленно просыпался, вновь засыпая на какие-то доли секунды, и наконец проснулся совсем, потянулся к будильнику и нажал на кнопку, и тишина установилась такая полная и неподвижная, что зазвенело в ушах. Мне очень хотелось спать, и я сказал себе, что надо сразу же встать, иначе я опять засну. И вдруг подумал — а зачем вставать? Я посмотрел на стол. Опять работать? А кому, это нужно? Почему бы мне не послать все к черту?
Я подумал об этом спокойно. Я не забыл вчерашних размышлений и своего решения драться до последнего. Но сейчас все это как-то не имело значения. Вчерашний день кончился — начинался новый, И я устроился поудобнее на постели и опять заснул.
А когда открыл глаза и посмотрел на часы, было уже половина второго. Я проспал одиннадцать с половиной часов, но чувствовал себя разбитым. Тупая боль в голове и знакомое ощущение опустошенности, когда ничего не хочется — только лежать, и ни о чем не думать, и чтобы тебя оставили в покое.
Кто-то постучал. Я не отозвался. У Ольфа есть ключ. А больше мне никого не хотелось видеть. Постучали еще раз, и я опять не отозвался. Голос Виктора неуверенно сказал:
— Это я, Дима. Ты не спишь?
Я встал и открыл ему.
— Привет, — сказал Виктор. — Я не разбудил тебя?
— Нет. Но, с вашего позволения, я опять лягу.
Наверно, это прозвучало не очень-то любезно, потому что Виктор виновато сказал:
— Я ненадолго. Просто зашел узнать, как дела. Давно ведь не виделись.
Я неопределенно пожал плечами и неохотно ответил:
— Дела как дела. Обыкновенно.
И когда посмотрел на Виктора, мне вдруг стало жаль его. Он сидел сутулясь и как будто намеренно не смотрел ни на меня, ни на стол, где в беспорядке были разбросаны бумаги. А ему, вероятно, очень хотелось взглянуть на них — ведь это была и его работа.
Вид у него был какой-то подавленный. Вряд ли ему живется так хорошо, как показалось Ольфу. Правда, одет он и в самом деле прилично, и физиономия заметно округлилась, — видимо, он давно уже забыл те времена, когда питался картошкой и килькой. Ему, наверно, тогда приходилось особенно туго — он весил под восемьдесят.
Он наконец взглянул на меня и кивнул на стол:
— Как работа?
— Плохо, — сказал я.
— А что такое?
— Слишком долго рассказывать. В общем, мура всякая пошла. А ты занимаешься чем-нибудь?
— Нет. Так только, на кафедре кое-что делаю.
И опять наступило неловкое молчание. Виктору явно хотелось что-то сказать мне, но он не знал, как это сделать. Я спросил его о жене, он ответил, но видно было, что думает он о другом. И наконец он сказал:
— Слушай, может быть, я чем-нибудь смогу помочь тебе?
И он опять кивнул на стол.
Я внимательно посмотрел на него. Для этого он и пришел? Виктор с надеждой смотрел на меня.
— Нет, Витя, — тихо сказал я, — не стоит. Да и смысла в этом нет.
Он опустил глаза:
— Ну, смотри, тебе виднее.
И мне опять стало жаль его. Я охотно принял бы его помощь, но в этом действительно не было смысла. Ведь прошло уже почти два года, как он бросил работать с нами, и тогда мы только начинали. Вряд ли он даже представляет, как далеко мы ушли с тех пор.
Мы еще немного поговорили, и он собрался уходить. И, уже одевшись, сказал, как будто только что вспомнил:
— Да, я захватил для тебя сигареты.
И смущенно отвел глаза, и мне стало неловко за него — ведь он все время помнил, что надо оставить мне сигареты. Какими же чужими мы стали, если приходится прибегать к таким уловкам.
— Спасибо, — сказал я.
Он выложил сигареты и сказал:
— Если тебе нужны деньги, я могу дать. У меня есть немного.
И он робко посмотрел на меня. Ему очень хотелось, чтобы я взял у него деньги, и я сказал:
— Давай, я как раз сижу без гроша.
Он обрадовался, положил на стол пять рублей, и я опять сказал:
— Спасибо.
И вспомнил, что когда-то мы совсем не говорили друг другу «спасибо». Тогда это показалось бы нам просто смешным — все, что мы делали друг для друга, было естественным или просто необходимым.