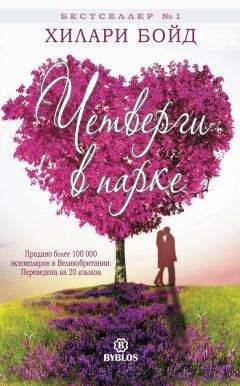Вячеслав Сукачев - По чистым четвергам…

Обзор книги Вячеслав Сукачев - По чистым четвергам…
Вячеслав Сукачев
По чистым четвергам…
Виктор Степанович Тихомиров, служащий средней руки, до поры до времени любил и уважал свою собственную жену, с которой сошелся еще в институте, когда был безрассудно молод и мечтал… Впрочем, кто из нас не мечтал в возрасте двадцати лет и кто не убеждался потом, что планета наша все еще для мечтаний «мало оборудована». Иной прагматик и слова-то такого не знает — «мечтать», а, смотришь, все у него удается и все идет именно так, как должно было идти только в твоих мечтах. И ты не то чтобы завидуешь ему, а словно бы теряешься от такой явной несправедливости, грустно пробираясь по многочисленным порогам жизни, пока наконец не столкнет тебя течением в тихую заводь, где ты успокоишься от юношеских грез, а там, глядишь, и вовсе о них забудешь. И станет тебе легко и уютно, поскольку мир, окружающий тебя, мечтами не избалован, а прост и реален, как магазинный чек на покупку двух пакетиков рыбного супа…
Жену свою, Катю, полюбил Виктор Степанович просто и неотступно. Правда, он не очень охотно вспоминал, как это у них все начиналось и как вдруг случилось, что однажды он в первый и последний раз купил и преподнес ей скромный букетик из трех тюльпанов: два были багрово-красные, сытые, а третий тюльпанчик словно бы выгорел на солнце и покорно опустил крылышки-лепестки. Катюша, маленькая, щупленькая, последыш грозной войны, изумленно вздрогнула глазами, спрятала руки за спину и опустила круглую голову, торжественно украшенную шестимесячной завивкой конца пятидесятых годов. Мимо бежали шумные трамваи, для равновесия уцепившись за провода мускулистой широкой пятерней, с железной крыши центральной сберкассы падали подтаявшие сосульки, люди, одетые в узкие брючки и обутые в ботинки на высокой платформе, равнодушно обтекали их. Он, Витя Тихомиров, студент четвертого курса политехнического института, все еще крепко смущавшийся своего деревенского происхождения, растерянно уставился на рыженькие кучеряшки своей Катюши. «Ты всем своим девушкам даришь цветы, да?» — тихо прошептала Катя, испуганно сталкивая слова с полненьких аккуратных губ. «Я? — опешил Витя, раздраженно опуская взгляд на щупленький тюльпанчик. — Катя…» И так он это сказал, что она живо вскинула головку, взглянула на него темными, слегка косившими глазами и протянула руку за букетиком, одиноко и сиротливо повисшим над грязным подтаявшим снегом. Потом, дождавшись свою напарницу Томку, Катя села на кондукторское место, а букетик положила на полку перед собой. Трамвай сухо, скрипуче прострекотал три раза, двери захлопнулись, и Катюша, заступив во вторую смену, покатила к следующей остановке, а он побежал в институт.
Что же было еще той сказочно-далекой ранней весной, памятной ему вечной сыростью в разбитых полуботинках и смущенно-счастливой улыбкой Кати за выгнутым лобовым стеклом трамвая? О, очень и очень многое… Хотя бы то, как пришли они в кафе «Снежинка» и Витя Тихомиров в первый раз заказал первые в своей жизни коктейли: «Шампань» — для Катюши и «Ликерный» — для себя. Он ровным счетом ничего не смыслил в этих коктейлях, но так заказал перед ним мужчина в каракулевой шапке, и Витя поверил ему, его, видимо, изощренному вкусу. В кафе стоял порядочно обшарпанный игральный автомат, регулярно и аппетитно глотавший пятнадцатикопеечные монетки, а взамен выдававший песни Муслима Магомаева и Эдиты Пьехи. В общем — хорошо было в этом кафе, так похожем на те, что описывал в своих повестях и рассказах Эрнест Хемингуэй, в ту пору пришедший на русскую землю массовым тиражом. И что там греха таить — хотелось Вите Тихомирову быть похожим на какого-нибудь там мистера Генри, угощающего американской сигаретой Кэтрин Баркли, или, на худой конец, на Гарри, умирающего далеко в снегах Килиманджаро. Но, увы, Катюша его не признавала курево, а горы Килиманджаро были так же далеки, как и будущая стипендия, после которой можно было бы позволить себе ещё раз завернуть в кафе…
И что за прелесть все-таки была его Катюша. Она и родилась, и выросла в городе, но Витя Тихомиров всегда об этом забывал. Даже наоборот: когда он бывал с нею, ему казалось, что это он, Виктор Тихомиров, городской парень, а Катюша (ведь даже имя об этом говорило) приехала из глубокой провинции, где до железной дороги надо два дня пехом киселя хлебать. И — теплые Катины глаза, слегка сдвинутые к вискам, они так умели впитывать каждое Витино слово, так трогательно и неотступно следили за ним, что Тихомиров очень скоро уже не мог обходиться без их света. Ему особенно нужна была поддержка восторженных Катиных глаз после заумных лекций, давивших его к земле обилием непонятной информации, после общения с товарищами, которые, бог знает почему, всегда знали чуточку больше Вити Тихомирова. Они и молчать-то умели выразительнее его: сразу было видно, что молчат из принципа, из пренебрежения к пустячности разговора. А уж если Витя умолкал…
IIКатя Сенечкина родилась и выросла на тихой окраине небольшого сибирского города, под грязно-смрадным боком завода, эвакуированного в годы войны не то из Киева, не то из Ленинграда. Завод, временно осев на холодной сибирской земле, так и остался здесь, постепенно наращивая производственные мощности и тесня деревянный пригород, по старинке украшенный резными наличниками, жестяными искрогасителями на печных трубах и прочими безделушками. В середине пятидесятых годов дошла очередь и до Катиного дома, который простоял на земле без малого сто лет. Они с мамой переселились на второй этаж шестнадцатиквартирного деревянного дома, поделив с соседом кухню и санузел. Мама, работавшая на заводе, была довольна, поскольку собственный дом отнимал много сил: дрова, ремонт, приусадебный участок. Теперь же у них было паровое отопление, горячая и холодная вода из крана, а дрова требовались только для приготовления пищи. Впрочем, через несколько лет решили и эту проблему, установив на кухне газовую плиту и огромный красный баллон с газом.
Мимо Катиного дома ходил трамвай, и она любила на нем кататься. Знакомая кассирша тетя Шура охотно брала ее с собой, в часы пик доверяя обилечивать пассажиров на первой площадке. Маме она говорила: «Вот вырастет твоя Катька, отдам ей сумку — пусть за меня работает. Все-таки не на заводе». Непонятно почему, но завод тетя Шура не любила, хотя и проработала на нем вместе с Катиной мамой более десяти лет. А Катя мечтала стать учителем…
Катя Сенечкина училась в девятом классе, когда ее мама погибла на заводе. Катя хорошо запомнила этот день… В середине февраля вдруг так припекло солнце, что с крыш закапало, а снег на дороге потемнел и начал сваливаться в комки. Она возвращалась из школы, даже через валенки чувствуя мягкую податливость снега, и белый комочек его перекатывала в красной ладони. Проходя мимо кинотеатра, Катя завернула в фойе и купила билет на «Полосатый рейс». Дома, перемыв посуду, оставшуюся на столе с утра, она пообедала, все время вспоминая про синенький билетик на четырехчасовой сеанс. И в это время неясный шум за окном привлек ее внимание. Катя оперлась о широкий подоконник и сквозь ядовито-зеленые листья герани разглядела белый кузов подъехавшей «Волги». И сразу же сердце сжалось у нее. Она испуганно отпрянула от окна, а в двери уже стучали…
Всего лишь месяц стажировалась Катя у тети Шуры, затем получила под расписку брезентовую сумку, отстригла ножницами пальчики перчатки с правой руки и самостоятельно села на высокий стул возле задней двери. Через год, закончив трехмесячные курсы вагоновожатых, Катя Сенечкина пересела на водительское место, осмотрела внешний и внутренний вид трамвая в зеркалах, тронула ручку и покатила по гулким металлическим рельсам, четырехгранными гвоздями надежно прикованным к шпалам, волнообразно проглядывающим из земли, словно бесконечно длинная стиральная доска. Первое время у нее после смены рябило в глазах от этой самой «стиральной доски», но потом она пообвыкла, и сравнение само собой выпало из ее головы. Труднее оказалось сработаться с напарницей, то и дело опаздывавшей на смену, а то и вовсе не выходившей на работу… Однажды, под праздник, напарница Томка завалилась к ней в гости, прихватив своего дружка с товарищем. Принесли они шампанское, водку и круг ливерной колбасы. Сосед, фронтовик дядя Леша, пил на кухне чай и укоризненно смотрел на суетящуюся Катю. Улучив момент, когда она осталась одна, строго прошептал: «Смотри, Катька, мать бы не одобрила…» А она и сама уже успела разглядеть пугающую развязность Томкиного парня, внимательно-пристальный, усмешливый взгляд его дружка Толика, который лип к ней словно пластырь. Но опыта у нее в этих делах не было никакого, и она наивно думала, что гости посидят, водку и шампанское выпьют, а там и разойдутся, поблагодарив за приют.
Гулянка сразу же завернулась круто, с места в карьер, как значительно позднее определила Катя. Толик, смешав водку с шампанским, объявил напиток «Северным сиянием» и предложил выпить. Катя отпила глоток и удивилась — было приятно. А Томка с дружками навалились: «Пей до дна! Пей до дна!» Она и выпила. У нее картошка была, тушеная, с курицей. Морковные кружочки так симпатично из картошки проглядывали, но они есть не стали. Хрумкнули огурцами, колбаску свою сглотнули, и снова Толик разлил. Она же, глядя на них, положить себе картошки постеснялась. И как ни выкручивалась, как ни бегала на кухню под разными предлогами, уже чувствуя предательскую слабость ног, от второго стакана ей отвертеться не удалось. И все так славно стало вокруг. Катя танцевать захотела. Поставили пластинку, с вальсом. Толик подхватил ее, прижал и, казалось ей, понес над полом. И все кружилось, все мерцало и переливалось у Кати в глазах: стол, уже изрядно разоренный, с пустыми бутылками на краю, торшер с бумажным абажуром в углу комнаты, распяленные в смехе красногубые рты сменщицы Томки и ее дружка… И сквозь непонятную радость, сквозь глупый, щенячий восторг — мгновенные уколы страха: что со мной? что теперь будет? зачем все это? То, как приходил дядя Леша, и, хмуря широкие густые брови, спросил ее, не пора ли дорогим гостям по домам расходиться — она уже не помнила. Как не запомнила и свой дурашливый смех под одобрительные взгляды рассолодевших на диванчике гостей…