Ванда Василевская - Когда загорится свет
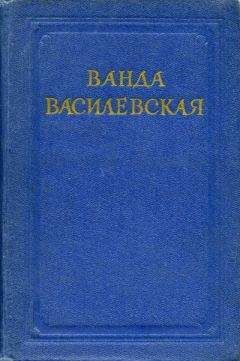
Обзор книги Ванда Василевская - Когда загорится свет
Ванда Василевская
КОГДА ЗАГОРИТСЯ СВЕТ
I
— Эй, хозяйка, еще пару кружек!
— Не надо, хватит, — неуверенно запротестовал Алексей, но Торонин не слушал его. Он блаженно улыбался, покачивая головой в такт гармошке и барабаня пальцами по залитому пивом столику.
Пивная — маленькая комната с грязным полом. В мутные окошки был виден толпившийся на базаре народ, голубой, прозрачный, как стекло, день. Пар голубоватыми клубами валил из лошадиных ноздрей. Бесснежная земля искрилась блестками инея. Солнце светило ярко, но его лучи уже не грели, они словно растворялись в прозрачном воздухе. Люди двигались быстро, лица раскраснелись от холода, и бодрящая свежесть дня живее гнала кровь по жилам. Далеко разносились резкие и четкие голоса.
Но в пивной шла совсем иная жизнь, — между тем, что заключалось в ее стенах, и человеческим муравейником снаружи не было ничего общего.
Растрепанная, недурная собой буфетчица наливала пиво в большие зеленоватого стекла кружки, которые разносила бледная официантка. На стойке громоздились холодные закуски, жареная рыба, крутые яйца, маринованая селедка, булки и груды нарезанного черного хлеба. Все столики были заняты. Густой тучей стоял дым, и монотонно звучала гармонь.
— Хозяйка, пару пива!
— Девушка, пива, пива гармонисту!
— Счет, счет давай. Долго ли еще дожидаться?
— Слышь, ты, сыграй-ка ту, саратовскую!
— Это почему такое — саратовскую? «Ермака» сыграй, слышишь?
— Пива ему, пива, а то у парня в горле пересохло.
— Хозяйка, еще две кружки!
У Алексея мутилось в голове. Белая пена стекала по пальцам, пиво было прозрачное и холодное. Назойливо звучал в ушах гул голосов, приглушенных хриплыми звуками гармошки.
— Дальше, брат, — наклонился к нему через столик Торонин. — Я ему, идиоту, говорю: за пригорком — немцы. Любой ребенок бы догадался, а он…
Алексей внимательно всматривался в покрасневшее лицо друга и пытался уловить смысл его рассказа. Что-то мучительно кололо в сердце, словно какая-то обида затаилась в закоулках памяти и вот-вот вынырнет на поверхность, заслонит весь мир пеленой. «Что это такое, что это может быть?» — с трудом, сквозь пивные пары, думал Алексей.
Дверь с шумом распахнулась. Вошедшие внесли с собой резкое, чистое дуновение холодного воздуха. Громко звучал их смех. Они бесцеремонно проталкивались между тесно поставленными столиками, задевали сидящих кобурами, висевшими на боку планшетами, полевыми сумками. Широко расселись, не прерывая веселого громкого разговора. Алексей взглянул на них сбоку, — мучительная боль снова кольнула сердце.
— Хозяйка, еще пива!
Теперь ему было уже безразлично. Пива так пива… Он лениво ковырял вилкой жареную рыбу. Есть не хотелось, но Торонин все заказывал и заказывал.
— Селедочки, только луку побольше дайте. И яиц, и огурчиков, и что там у вас еще есть!
— Не надо, Володька, не надо, — бормотал Алексей, но Торонин широко взмахнул рукой, едва не сбросив со стола кружки.
— Как так не надо? Ешь, ешь, рубай, нужно спрыснуть встречу. Товарищ по фронту, — объяснил он официантке.
Та улыбнулась, ничего не отвечая. И Алексей покраснел — за свой штатский костюм. Да, да, это именно то, что его тревожило, — лоснящийся от пота, сверкающий орденами и звездочками Торонин, эти ребята в сдвинутых на затылок пилотках — вся эта комната, где, кроме каких-то неопределенного вида стариков и старух, один он, капитан Алексей Дорош, был в штатском.
— Пей, Алеша, пей, — приговаривал Торонин, и Алексей лил в себя холодное пиво, уже не чувствуя его вкуса.
— Пригорок как пригорок. Сбоку речка, за речкой лес. Я ему и говорю… — упрямо возвращался Торонин к своему путаному, то и дело обрывавшемуся рассказу. — Слышишь, Алеша?
— Слышу, слышу…
— Я ему, болвану, опять: за пригорком — немцы…
Но Алексей слушал другое. Где-то за спиной бесцветный низкий голос рассказывал полушепотом длинную историю. Сначала Алексей не мог уловить слов. Его загипнотизировал самый голос, его таинственное звучание, монотонность. Он вслушивался. И вдруг почувствовал, что по спине пробежала быстрая, холодная дрожь.
«— А коней было четыре… конь белый… конь рыжий, и сидевшему на нем дано было лишить землю покоя, — чтобы люди убивали друг друга, — и конь вороной… и конь бледный, а на нем ездок, имя которого — смерть. И дана ему была власть над четвертой частью света — губить мечом и голодом, мором и зверями земными…»
Алексей встал, слегка пошатываясь.
— Что ты, Алексей, тебе нехорошо? — забеспокоился Торонин.
За соседним столиком сидело несколько человек. Пожилой мужчина в ватнике — белая пена пива осела на его выцветших усах — таращил глаза, внимательно слушая. Его сосед подпер рукой голову в истрепанной шапке и тяжело вздыхал. Говорила женщина в таком же ватнике, в сером платке, из-под которого выбивались пряди редких седых волос. Все трое были похожи друг на друга — серые, словно присыпанные пеплом, в почти одинаковой одежде, одного возраста. Старость стерла с лица рассказчицы даже след женственности — только платок, покрывавший голову, указывал на ее пол.
— Что это? — глухо спросил Алексей, наклоняясь к ней.
Она посмотрела неприязненно.
— А что такое?
— Что вы говорили сейчас…
— Мы ничего, мы так себе…
— Нет, нет, я слышал… Конь рыжий, конь белый…
Старуха энергичным жестом отодвинула от себя кружку.
— А что, кум, правда есть правда. Ибо наступил день гнева господнего, и кто устоит перед ним?..
— Что это? — нетерпеливо повторил Алексей.
На него глянули суровые бесцветные глаза в сетке морщин.
— Это откровение Иоанна: яко же приидет день гнева господнего, и убивать будет один другого, и падет на землю град и огнь, и услышан будет глас ангела: горе, горе, горе живущим на земле и на море… Сбылось пророчество святого Иоанна в наши дни…
— Апокалипсис? — спросил Алексей.
— Пойдем, кума, — потянул женщину за рукав мужчина в ватнике. — Домой пора.
Алексей снова сел к своему столику. Торонин укоризненно забормотал:
— Да что ты, Алеша? Не слушаешь, уходить собираешься. Уж и посидеть с фронтовым товарищем не хочешь, кружку пива выпить, о друзьях поговорить…
Помутневшие от алкоголя глаза затянулись стеклянной пленкой слез. Губы искривились, точно у собирающегося заплакать ребенка.
— Что ты, Володька… Я только…
— Ну, так выпей еще кружечку. Не обижай друга. Помнишь, Алеша, как мы тогда под обстрелом лежали, в том лесочке и…
— Да, да, — смущенно пробормотал Алексей и чокнулся с Торониным. Толстое стекло звякнуло.
— Вот видишь, Алеша… За твое здоровье… Что это я хотел тебе сказать? Ага!.. Вот, значит, такой пригорочек. Я ему, дураку, и говорю…
Алексей покачивался на стуле. Он сам чувствовал, что пьян. В пивной становилось все более душно, туча табачного дыма окутала сидевших за столиками людей. В сером тумане расплывались их лица. Только румяные щеки и светлые крашеные волосы женщины за стойкой выделялись из тумана, когда она делала быстрое движение.
— Вот я ему, дураку, и говорю…
В ноги тянуло холодом от плохо затворявшихся дверей. На улице под окнами грохотали по булыжнику колеса уезжающих с базара телег и отчаянно стрелял мотор грузовика, который никак не мог сдвинуться с места. Алексей пристально смотрел в лицо Торонину, но уже не видел его. Перед его глазами встала поляна, обступившие ее темной стеной деревья и над ними прямоугольник неба, усеянного яркими звездами. Тихо потрескивает маленький огонек, укрытый под наскоро сплетенной из веток крышей. Мрачно поют деревья суровую мелодию ночи. Они сидят у огня — четверо бездомных, затерявшихся в необъятных просторах оборванцев, успевших потерять за эти дни человеческий облик. Обросшие, бородатые лица, волчий голод в глазах, настороженный слух. Хотя немец не проберется в лесную чащу через завалы бурелома, через трясины, по которым можно пройти только тайными тропками, как ходят звери на водопой. Их четверо, отбившихся от части, которая уже перестала существовать. Неопределенной профессии юноша, Петька, усатый колхозник из-под Полтавы, Мамед-Хаджи из далекой Азии и, наконец, он, Алексей. Лес, пылающее звездами небо, их четверо — и словно никого больше на всем свете нет. Бесконечно тянется ночь. Осенний холод проникает сквозь лохмотья рваных шинелей. Лишь грудь согревается от теплою прикосновения знамени, скатанного в небольшой сверточек, сорванного в последний момент дрожащей рукой с древка и спрятанного за пазуху, пронесенного по всем лесным дорогам, по трясинам, сквозь все эти дни, сквозь весь этот страшный путь. Сосет голод. Горят ноги, израненные и опухшие…
Охрипшим голосом Мамед-Хаджи рассказывал легенду. Ее и сейчас слышит Алексей.



