Виктор Потанин - Птицы
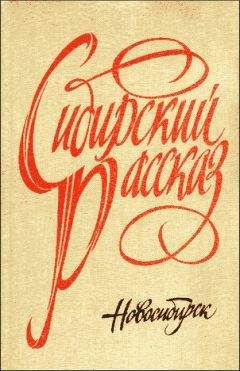
Обзор книги Виктор Потанин - Птицы
Виктор Потанин
Птицы
Кому из нас не хотелось стать птицей! Хотелось, конечно, хотя бы однажды… Чтобы лететь, парить под самыми облаками, чтобы вдыхать в себя упругий небесный воздух, чтобы взглянуть с высоты на землю и скользить по небу — пока хватит дыхания.
Такое часто случается в детстве: только заснешь и вот уж ты — птица: какая-нибудь желтая, красная, голубая. И вместо сердца у тебя — крылья, и они поднимают тебя все выше, выше. И даже утром, при свете дня, этот полет не проходит в тебе, не тает, — и ты завидуешь всем летчикам, самолетам. Счастливые, мол, люди, особые люди. Ох, как я мечтал о них, как стремился! Но пришло горе — я не попал в летное по здоровью. Горе, горе, а кто поможет. Человек мечтает, а судьба подправляет. Зато я стал совсем обычным человеком и теперь работаю в библиотеке. Но это тоже хорошее дело — жить простой честной жизнью, выдавать людям интересные книжки. Но жизнь, конечно, богаче книжек. И грустней порой и печальней. И не надо человеку завидовать птицам. Да, не надо, не надо! Об этом я решил еще три года назад. Но лучше будет, если все по порядку…
Мои беды тогда — три года назад — начались в самом начале марта. Я хорошо запомнил те дни, ведь март — мой любимый месяц. Он для меня как награда. Потому что приходит оттепель, тает снег, дуют теплые ветры. Одним словом — весна, а весной-то у людей все и случается… Вот и случилось: в те теплые метельные дни моя Женя бросила музыкальную школу. Заболела ангиной, пролежала с температурой семь дней, а потом встала и порвала ноты с детскими пьесами Мендельсона. Я к ней: «Что с тобой? Ты сошла с ума?» Дочь молчит, а я снова: «Пожалей меня! Ты помешалась…» Она взглянула куда-то мимо меня — «Да, помешалась…» Сказала медленно, вяло, по-взрослому и прикусила губу. Я попробовал ее уговорить, она разрыдалась. Я взял ее ладошки в свои — она разрыдалась еще сильнее. И у меня тоже слезы брызнули по щекам. Что ж поделаешь — сам виноват. Никогда не сжимайте ладони у своих дочерей! Никогда, никогда!.. Там столько хрупкости, нежности в этих ладонях. А где нежность — там и жалость всегда, там и боль… Я смотрел на ее длинные недетские пальцы, я гладил их потихоньку, перебирал, я чувствовал через них — все ее будущие дни, всю судьбу ее, — такую же, наверное, хрупкую, синевато-прозрачную, только затронь посильней — и сломаешь. Но все равно эти пальцы были навсегда родные, родные — им бы играть Шопена, волноваться на клавишах, им бы делать других счастливыми… А тогда они лежали в моей ладони, и я слышал в них каждую косточку, да и сама дочь все еще вздрагивала и вытирала глаза… И тогда я не выдержал и сказал: «Хорошо, Женя… Из музыкальной тебя забираю. Но зато куплю путевку в бассейн — пойдешь плавать. У тебя нет здоровья, а в бассейне окрепнешь». «Хорошо, папа, окрепну…» — ответила дочь опять обреченно, по-взрослому, — и у меня замерзла спина. Но что поделаешь — нынче дети взрослые в девять лет… А через неделю Женя поскользнулась в бассейне на кафеле и сломала ключицу. Дочь увезли в больницу на «скорой». А к вечеру она была уже дома, лежала на своем любимом красном диванчике и тихонько постанывала. Я спросил о чем-то — дочь не ответила. Я опять спросил, она повела на меня ненавидящим взглядом. В глазах настыла мутная пленочка. То ли от боли, то ли от страха за жизнь. Но вот пленочка пропала, растаяла — и закрылись глаза. Я наклонился низко над Женей, прислушался. От губ шел слабый парок — дыхание. Еще миг — и кажется, порвется оно, остановится. Я стал считать до десяти, потом до ста, до тысячи… Я стал как помешанный.
А на следующий день было еще тяжелей. Я ждал какого-то продолжения. Если случилось одно, значит, не за горами — другое. Любое горе, говорят, повторяется трижды. И я опять ждал и терзал себя.
Ждал, ждал и дождался. В конце апреля мы схоронили учителя Ивана Григорьевича. Под словом «мы» я подразумеваю весь наш небольшой городок. Почти каждый житель его учился у Ивана Григорьевича. Он отдал школе сорок пять лет. Почти вся жизнь, даже немыслимо… И за все эти годы он ни разу не позволил себе заболеть, ни разу не лежал в больнице… И такой внезапный конец! Да и когда ждешь его, и разве готовишься… Жил, ходил человек, улыбался тебе и здоровался — и вот лежит весь в венках. А рядом играют трубы, и эта глуховатая печальная музыка растекалась вокруг, как дымок. И почему-то мешала. Хотелось постоять молча, задуматься, заглянуть в себя, что-то вспомнить, а эта музыка все время отвлекала, отбрасывала, да и на музыкантах, на их мордах — сиял пьяный румянец. Не утерпели все же — приложились. Иван Григорьевич бы им не простил. Нет, нет, не простил бы. Он вел очень чистую и скромную жизнь. Наверное, потому, что преподавал биологию, всегда дружил с птицами и животными и взял от них много привычек. Вот и тогда его провожали и люди и птицы. Особенно много было грачей, — они кружились над толпой и кричали. И пока мы шли до кладбища, — они все кружились над нами и что-то высматривали. Иногда они снижались совсем низко-низко, еще миг — и опустились бы на венки. Но в последний момент почему-то раздумывали. Наверно, боялись музыкантов, их больших неуклюжих труб.
Со мной рядом был Леня Шутов, мой школьный товарищ. Он пошел по стопам Ивана Григорьевича и преподавал биологию в сельской школе — в деревне Тарасовке, недалеко от нашего городка. Эта Тарасовка ему полюбилась, там он нашел недавно невесту, женился и купил большой дом. Об этом доме он мне тогда и рассказывал. Играла музыка, и многие плакали, под ноги из машины бросали сосновые веточки, а Леня не унывал:
— Понимаешь, у меня дом на две половины. Да, да! Как жили дворяне. На одной половине — Рита, а на другой — мой кабинет.
— Леня, потом, потом… На нас уже смотрят. — Умолял я его и брал за рукав, но он точно не слышал, глаза призывно блестели:
— А ты ко мне приезжай! Мы завели корову, индюшек. А какая у нас рыбалка! Ты обалдеешь. Понимаешь, я купил бредешок. Неводок небольшой — метров десять, но весь карась теперь мой…
— Леня… Мы же за гробом…
— Ну прости, я ведь соскучился. Зову, зову, а ты все не едешь… Ну, конечно, библиотека — серьезное дело. А друг, говорят, подождет. — Он усмехнулся, расстегнул плащ и стал смотреть куда-то на облака. Кожа на лице у него золотилась, точно у юноши, и я не вытерпел:
— Леня, а ты помолодел!
— Да! Ритку свою догоняю. Ей недавно двадцать исполнилось. Вот так, дорогой. Комсомольцы — беспокойная семья!.. Комсомольцы! — последние слова он даже пропел вполголоса. И я чуть не вскрикнул от боли: Леня, мол, да что ж ты делаешь. Вот уже кладбище начинается.
Толпа теперь двигалась по широкой тополиной аллее. Музыка уже не играла, и стало легче дышать. Птицы тоже теперь не кричали, притихли. Грачи сидели на деревьях целыми семьями. Вид у них был спокойный, даже торжественный. Многие из них чистили клювами перышки, другие внимательно разглядывали толпу. Леня задел легонько мое плечо:
— Послушай, ты хотел бы стать птицей? — он сильнее сдавил плечо. Глаза у него блестели, лукавили, — и я снова обиделся. Вокруг — такое горе, и слезы, и траур, а у него — веселые глаза, пустые вопросы.
— Так ты не ответил? — он рассмеялся, и я еще больше обиделся:
— Леня, потом, потом…
— А я хотел бы!
— О чем ты?
— О птицах… Как хорошо, наверное, иметь два дома, две родины! Нынче здесь — где-нибудь в Сибири, а осень пришла — и полетел в Египет, поближе к солнышку, к теплым морям.
— Две родины — многовато…
— Может быть, а все равно — хорошо! И какая жизнь! Какая свобода! Вон взгляни — загляденье… — Леня поднял руку и показал на грача, который парил высоко над деревьями, — то ли чего-то высматривал, то ли потерял свою стаю… Но в это время ожили трубы, и Леня втянул в плечи шею. Наверно, стало стыдно за свои разговоры, за свою радость, которая так и ходила в нем, распирала. Я-то понимал его — дома ждала молодая жена. И тем же вечером он к ней собрался. Я уговаривал ночевать, но он замахал руками.
— Не могу! Рита забеспокоится. Да и зачем ночевать? Дело мы свое сделали — человека похоронили. Иван Григорьевич теперь на нас не обидится. У меня вон уже начались огороды, а я все бросил — приехал.
— Какие огороды?
— Ладно, будешь в июне — увидишь. А не приедешь — обижусь. Ты и на свадьбу ко мне не выбрался. Так что штрафной пить заставлю! — он засмеялся и подмигнул мне, белозубый, счастливый, в темном финском плаще он походил на какого-то актера: светлые рыжеватые волосы, голубые глаза, большой подбородок.
У самой двери он опять оглянулся:
— Подойди же, хоть поцелуемся!
— Лепя, мы не девицы!
— Правильно! — и он хлопнул дверью. Но еще долго в моей комнате стоял его густой голос и какой-то сочный морозный запах — то ли от самого Лени, то ли от какого-то дорогого одеколона. Но я знал, я помнил, так пахнет береза в самом конце весны, перед тем, как разметать по кроне свои первые листья. Подойдешь к такому дереву и ошалеешь от радости и забьется сердце, а потом почти остановится, и обессилеет тело в неясной истоме, и гулко-гулко застучит в голове. То ли молоточек какой-то, то ли призыв, то ли кровь сама наполнится ожиданием…




