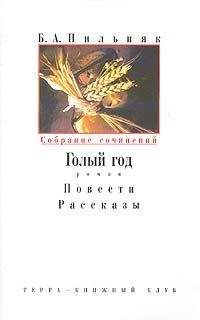Борис Пильняк - Расплеснутое время (сборник)

Обзор книги Борис Пильняк - Расплеснутое время (сборник)
Борис Андреевич Пильняк
Расплеснутое время
Расплеснутое время
Жизнь очень напряжённа. Человеческий мозг, как кувшин с водой, может наполняться только до пределов: иначе польётся через край; и огромное счастье не иметь на столе блокнота, где записано: «рукописи в „Круг“, позвонить курьеру», «в пять А. Б., приготовить книги», «в два позвонить Дикому», «предупредить Всеволода». Дома все знают, что до четырёх «нет дома, кто спрашивает?» — потому, что я сижу за столом, иначе невозможно, — надо прятаться даже от звонков. Но в семь всегда надо выходить из дому — для встреч, для театра, для заседаний и споров, — это счастье, если ляжешь спать в два. И это несчастье, если надо днём пойти в редакцию за гонораром, в район за паспортом или о подоходном налоге, — день погиб: время чрезвычайно тесно, а мозги, как кувшин с водой, надо беречь, чтобы не расплескать мысли. Необходимо писать, словами и образами можно беременеть и — можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности разродиться, и поистине по-кошачьи надо иной раз кричать, что «нету дома, снимите телефонную трубку!» —
Чтобы писать — надо никуда не спешить и беречь свой кувшин мозгов, не расплескать. И книжек на полках растёт всё больше, по полкам книг уползаешь всё выше, где всё начинает одиночествовать, — да ползёшь и по полкам лет, волосы уже не рыжие, не ражие, выцветают. Всякая жизнь однообразна, и у меня такое же, как у всех, однообразие.
Приехал из Питера Замятин. Обедали, собрались в театр. Евгений с репетиции (приезжал смотреть, как ставят во Втором МХТ «Блоху») заезжал в Современник, привёз оттуда мне письмо, присланное в адрес редакции (когда собрался я уже из дома, звонил Рукавишников, с ним давно мы затеяли переписку с Хлебного на Поварскую, причём Хлебный переселялся в Испанию, а Поварская на Шпицберген, где был я по осени, и решить мы в письмах хотели истину шахматной игры, переплетённую в гофмановский переплёт последней — прекрасной— Любви); Евгений передал мне письмо, я положил его в карман, решив прочесть потом; Замятин и я, мы пошли в Художественный на «Ревизора», в антракте Евгений пошёл за кулисы, а я остался, чтоб прочесть письмо.
Вот оно:
16/XI — 24 г.
Читала Вашу книгу «Быльё» и вспомнила 19-й год, мою поездку за хлебом и знакомство с Вами. Помните телячий вагон, Вашу поездку за хлебом и девушку с рыжими волосами. Вы, кажется, не знали моего имени и называли меня Тёзкой. Помните Ваши настойчивые и упорные желания, которые я не хотела исполнить. Вначале я ведь ни капельки не боялась Вас, и мы бродили далеко, далеко по полотну железной дороги. Гуляли, болтали, лежали на Вашей шинели. Вы мне рассказывали о чём-то красиво, красиво, и мне хотелось бесконечно слушать. Обратно ехали на станцию на площадке встречного поезда, тесно прижавшись друг к другу. Тогда мне приятно было чувствовать мужчину сильного, страстного…
Вы же, надеясь, верно, что я уступлю, чем дальше, тем упорней настаивали…
С тех пор прошло пять лет. Я изменилась так, что Вы едва ли, встретив, узнали бы. Много пережила, стала опытной и поняла, что Вы поступили великодушно. На свете столько зла и насилия, что теперь я оценила Вас.
Я ведь была наивна и беззащитна, и стоило Вам приложить побольше усилия, чтобы оставить ужасный и вечный след на моей душе. Но вы не сделали этого. Благодарю.
Теперь у меня просьба к Вам: укажите возможность достать «Голый год». Я искала и в К. и в Я., но нигде не нашла, здесь книжные рынки очень бедны, и из Ваших книг, кроме «Былья», ничего нет. Хотела бы знать, в каком журнале Вы сотрудничаете. Видела Вашу фамилию в «Русском современнике», но это было ещё летом, так что теперь не знаю в какое издательство писать.
Простите за непоследовательность мыслей и фраз. Но я пишу между делом — тороплюсь на поезд. А потом, вообще, человек страшно непоследовательный. Если надумаете написать, то вот мой адрес.
Чувствую, что надоела Вам, а потому спешу кончить.
Валентина-Тёзка
Р. S. А всё ж таки напишите мне, я буду ждать.
Прочитал и вспомнил девятнадцатый год, шпалы, степные ночи, рыжую девушку со стремительными движениями. У меня в кармане лежал документ: «рабочий-наборщик Коломенской типографии», — липовый документ, — но я ехал с коломенскими рабочими; тогда откупались целые вагоны и они аргонавтили по степям за пудами ржи в войнах с заградительными отрядами, и соседним аргонавтским кораблём был вагон иваново-вознесенских ткачих; я был уполномоченным нашего вагона, уполномоченной ткачих была рыжеволосая девушка, и вскоре узналось, что она такая же «ткачиха», как я «наборщик»: она только-что окончила гимназию, собиралась — или в Москву на курсы, или в село в учительницы. В памяти моей не сохранилось, чтобы я добивался её так, как написала она в этом письме, мы все тогда были в полубреде и за гомерическими матершинами в борьбе за кусок хлеба, за мешок муки (под тяжестью которого до слёз больно подгибались ноги этой рыжеволосой девушки), а мы только двое в этом человеческо-волчьем бреду были одинаковы по происхождению и культуре… Прочитал письмо, думал, как далеко ушёл от меня девятнадцатый год, когда я в безвестности писал первые свои рассказы и жил рядовым мешочником, — решил, что этой девушке напишу письмо, правда, решил чуть-чуть спровокатить, чтобы вызвать её на откровенность, чтобы узнать чужую жизнь. Показал письмо Замятину, он говорил лирические слова о женственности и о лирике женщин, предположил, что эта девушка хочет в письмах рассказать мне, далёкому, о себе и что у неё какие-то горести. Мне приятно было так думать, как думал Замятин, и приятно было его слушать. Весь тот вечер я вспоминал рыжеволосую девушку и думал о девятнадцатом годе. И всем показывал это письмо, потому что, в сущности, в моём «разнообразии» бытия, в том «кувшине», который нельзя опрокинуть, — и очень большое однообразие, и всегдашняя радость всё расплескать.
Наутро я писал то, что было на очереди. В сумерки я написал ей, этой девушке, письмо. Вечером мы собрались слушать Андрея Белого. Я дал Феде прочесть письмо девушки, он тоже, как Замятин, говорил лирически по поводу него и записал себе, чтоб на утро распорядиться отослать мои книги ей. Ольга рассказала мне содержание рассказа Марселя Прево, которого я не читал, где рассказывается, как из Парижа приехал молодой чиновник в провинцию и тишину, где дни плетутся, как годы; там он встретился с женщиной, женой мужа, у них была мимолётная связь, он говорил ей прекрасные слова и уехал обратно в Париж; она мечтала о нём всю жизнь, о том, что в Париже есть человек, который любит её, которого любит она, — эта любовь скрашивала её годы и её жизнь, у неё было оправдание буден, и она могла жить ожиданием… А он, тот молодой чиновник, у которого были тысячи связей, делал карьеру в Париже и министром приехал в город, где жила любящая его женщина. Она пошла встречать его на вокзал, и он прошёл мимо, не заметив и не узнав её…
Я написал этой девушке:
Тёзка, здравствуйте.
Ваше письмо передали мне. Помню то лето, те мытарства, шпалы и теплушки. Помню Вас, Тёзка, Ваши рыжие волосы, Вашу особливость от всех, — тот пригорок у шпал, где в синей ночи мы караулили тишину и звёзды.
В Вашем письме прозвучали, мне показалось, горькие обо мне нотки: говорю правду, никогда там в этом нашем «шпальном» прошлом ни на минуту не хотел сделать я Вам больно и нехорошо, — впрочем, годы заставили Вас передумать обо мне. Вы написали искренно и заговорили о том, о чём так трудно говорят женщины и о чём вообще трудно говорить, — я не принимал наши отношения такими как показались они Вам. Мы встретились на минуту, в далёком прошлом, на шпалах, — Вы написали искренно и просто — и давайте будем писать друг другу по-хорошему, о самом главном, о чём не говорят… Хорошо?
Вы пишете, что я был великодушен, — Вы пишете, что «на свете столько зла и насилия» и что Вы стали совсем другой. Я помню ту рыжеволосую девушку с такой стремительной походкой. Что стало с ней, с этой девушкой, как прошли эти её пять лет, какие обиды и какие радости принесли они, самое главное — в чём? Я знаю, как трудно писать о том, о чём не пишут, — так Вы присылайте всё, что напишется, как напишется, со всеми помарками, — мне всё будет дорого от Вас. В Вашем письме есть надломанность, чуть-чуть боли, — да — «человек страшно непоследователен». Всё, всё напишите мне. Я так хорошо помню сейчас ту караульную тишину, шпальные пути, и те дни с Вами, и Вас.
Что же сказать о себе? Буду ждать Вашего письма, чтобы знать, что Вы хотите знать обо мне, всё расскажу, как есть, как было. Что же, я — писатель, пишу книги, пишу про свою и чужую жизнь, плету вымыслы с явью.
Быть может, Вы слышали, что мне выпала горькая слава быть человеком, который идёт на рожон. И ещё горькая слава мне выпала — долг мой — быть русским писателем и быть честным с собой и Россией. Я живу в Москве, — тоже и у меня многое унесли эти годы, ударило мне тридцать, пришло мужество, — те далёкие шпалы мне кажутся путём и преддверием к тому, что вокруг меня.