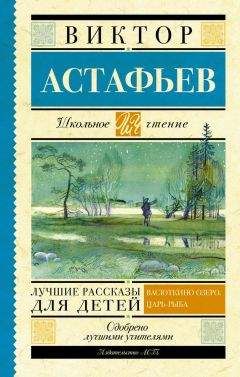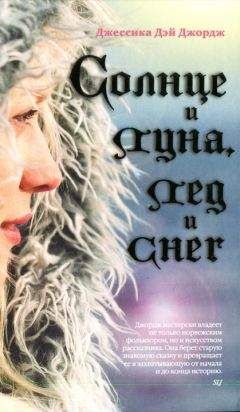Виктор Астафьев - На далекой северной вершине
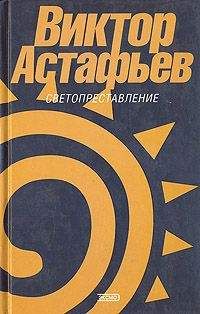
Обзор книги Виктор Астафьев - На далекой северной вершине
Виктор Астафьев
На далекой северной вершине
Он часами неподвижно стоял на каменном останце, окутанном сонной дымкой. Останец был огромен, гол, черен и напоминал развалины древнего замка. Вокруг останца раскатились на версту, а где и на две, каменья величиной с двухэтажные дома. От этих каменьев откололись и рассыпались булыжины поменьше, и осыпи были похожи на серые стада, пасущиеся вплоть до зимних снегопадов у подножия скал на густотравных, заболоченных полянах.
Останцев, гольцов, осыпей, срезанных ветрами скал много на Великом хребте, и почти все они называются соответственно той форме, какую дала им природа: Медведь, Чум, Трезубец, Патрон и даже Бронепоезд.
Он почему-то выбрал Патрон. И на его тупом срезе, нацеленном в небо, стоял, глядя вниз. Если бы у него не было рогов, раскидистых и ветвистых, его можно было бы принять за причудливо источенную дождями и ветрами вершину — так он сливался со всем этим, убаюканным тысячеверстной тишиною, суровым миром.
На останец он выходил перед закатом солнца, когда спадала с вершин синяя паутина и было далеко и отчетливо все видно. Солнце, перед тем как закатиться, уютно западало в рога и какое-то время покоилось там, будто в раскинутых добрых руках. Затем оно скатывалось за спину оленя, и от каждого отростка его рогов улетали ввысь лучи, весь он вспыхивал голубоватым, загадочно-манящим светом и на миг словно бы превращался в яркую планету, взошедшую над Великим хребтом. Все звери и птицы замирали вокруг, в пугливой настороженности поворачивали головы туда, где вот уже несколько вечеров без дыма сгорал дикий олень и не мог сгореть.
Вожак двухтысячного оленьего стада, которое кочевало к родному колхозу с запада на восток по Великому хребту, выедая по пути пастбищные мхи, чуть приотставал и, по-мужицки крепко pасставив узловатые ноги, тревожно глядел на останец, где стоял и светился олень.
Ноздри вожака дрожливо пульсировали, от напряжения по ним сочилась сырость, к голове его приливала кровь, и в ушах начинало шуметь. Вожак тряс головою, пытаясь отогнать этот густой, тяжелящий все тело шум.
Вожак был грудастый, кряжистый и строгий. Он вместе с сильными оленями — хорами возглавлял оленье стадо, и вожаком признавали его не только олени, но и пастухи-оленеводы, доверчиво разговаривающие с ним и балующие его за верную службу солью-лизунцом. Вожак не раз спасал это стадо от нырких и бесстрашных северных волков, привыкших добывать еду в смертельной борьбе. Вожак помогал пастухам находить кормные поляны ягельника среди осыпей, на пустынном, обветренном хребте; почуять надвигающийся обвал и узреть затянутые рыжей шерсткой мха трясинные окна; расслышать крадущиеся, по-кошачьи мягкие шаги белошеего горного медведя; и много еще нужного и полезного людям и оленям знал и умел вожак.
Не умел вожак одного — драться за продление рода, добывать в борьбе любовь. Люди избавили его от этой извечной необходимости. Люди сделали его покорным и послушным, они загасили в нем пламя, которое сожгло не одно оленье сердце, тот огонь, из которого выплавлялись быстрые как вихрь, самоотверженные и гордые в любви олени.
А тот, на останце, хотел сразиться.
В позе его, напряженной и дерзкой, в раскинутых встречь ветру рогах, в поджатой ноге был вызов, и чувствовалось — вот-вот затрубит он на весь этот подоблачный край, встревожит и пробудит от белого сна горы и бросится следом за пенистыми потоками вниз, слепой и яростный от губительно-сладкой звериной страсти.
Вожака охватило беспокойство. Он уводил стадо все дальше и дальше от останца Патрона. Фигурка оленя на гольце сделалась уже с комарика величиной. И все же в долгую северную зорю, почти сомкнувшимся кругом обнявшую хребет, видно было дикаря-оленя, как спускалось солнце на его рога, видно было и как он на мгновение превращался в язычок пламени и невиданной планеткой восходил над землей, а затем медленно угасал в пепельно-серых северных сумерках. Но вот стадо отошло так далеко, что останец Патрон призрачно закачался и, как бы отделившись от земли, слился с небом, растворился в нем.
Мускулы вожака сами собой расслабились.
Он успокоенно улегся на просторной ягельной поляне, утомленно закрыл белыми толстыми ресницами глаза. Взамен вожака по бокам стада встали два сильных хора, подняли головы, дрожливыми ноздрями процеживая струи воздуха, распутывая нити, вплетенные в эти струи, будто читали бесконечные, сложные, им лишь ведомые письмена. Вокруг отдыхающего вожака, кокетливо изгибая шейки, ходили пышногрудые, ушастые важенки.
Вожак смотрел на них дремно и сыто, переваливая во рту сочную ягельную жвачку.
Утром мимо стада, сопровождаемые собачьим лаем и гамом, прокочевали пастухи, остановились ненадолго, дали соли-лизунца вожаку и разбили палатку за седловиной, в заветрии, у потока. Вожак через два-три дня приведет стадо к стоянке пастухов, и они пропустят его мимо, а после снова обгонят и снова разобьют палатку впереди.
Так вот постепенно стадо оленей перевалит хребет. Нагуляв тело на горных ягельниках, к зиме олени спустятся на равнину, в колхоз, к спокойной, беззаботной жизни.
А дикарь этот останется здесь, одинокий, мятежный, и, скорее всего, волчья стая выследит его зимою, погонит так, что от мороза у него ледяными пробками схватит ноздри, и он, задохнувшийся, обреченный, остановится в глубоком снегу. Волки неторопливо стянутся вокруг дикаря петлею, разорвут и растащат его по кусочку.
Даже кровь с камней и со снега слижут волки.
Откуда он взялся, этот бесстрашный гость? Зачем пришел сюда?
Уж много лет в этих краях нет диких оленей. Люди оттеснили их еще дальше на север, в ветреный и пустынный заполярный круг. Может, отбился от домашнего стада и одичал этот олень? Может, во время гона, забыв обо всем на свете, мчался безрассудно за важенками и очутился здесь? А может, никак не сыщет важенок и рыщет по хребту, истово желая любить и сражаться за любовь?!
Но у него были важенки. Две. Как он нашел их среди каменных осыпей, в голых завалах ущелий, в искореженных худых лесах — известно только ему. Он был молод, к нему пришла первая свадебная осень, и он, происшедший от дикого оленя и гибкой, как ива, северной оленухи, был неистов в любви и жадно искал еще и еще самок. Но сильнее любви он жаждал боя, горячей схватки, чтобы истратить переполнявшую его страстную силу, притушить огонь, все больше распаляющийся в сердце.
Но на огромном, необозримом хребте не было больше диких тонконогих оленух и гривастых диких оленей. Он трубил, он звал их, и две важенки, чудом найденные им, чутливо насторожив уши, слушали его гневный, страстный голос и покорно следовали за ним все дальше и дальше к югу, в сторону склонов, покрытых лесами, пугающих скрытою в них опасностью.
Жажда материнства была сильнее страха.
Они не отставали от самца. А он, ловя томительные, зовущие запахи в струистом осеннем ветру, точно шел к огромному оленьему стаду. И пришел.
Он стоял и вечер, и два, и три на останце, ожидая, когда придут к. нему сразиться такие же, как он, гордые и яростные самцы. Он трубил так, что внизу, утаившиеся в камнях, вздрагивали немые, терпеливые и преданные в любви важенки.
Никто не откликался на голос дикаря и не шел с ним драться. Он мог бы сам прийти к стаду и ударить копытом оземь так, что камни полетят из-под них, густым комарьем закружатся клочья травы и мха, повиснет вокруг предчувствие битвы. Но запахи дыма, собак и какого-то устойчивого, сытого покоя пугали его.
Там, внизу, пахло человеком. А человека он не переставал бояться даже во время гона.
И все же любовь преодолела страх. Когда стадо ушло за горбом выгнутый хребет, к истоку северной реки, он двинулся следом за ним. Разжигаясь от погони, неизвестности и предчувствия битвы, дикарь все ускорял и ускорял свой легкий бег.
За ним неслышными тенями мчались две легконогие важенки, осыпая с карликовых березок искры листиков, продолговатые капли голубицы, растаптывая крепкие ягоды клюквы, ломая хрусткие ветви багульника.
Он нагнал стадо на склоне xpебта, где уже кончался мох, начинались леса и спутанными валами лежали вразнохлест нескошенные травы на отлогих полянах.
Он вышел на середину поляны, постоял среди крепких, как проволока, веток травы кровохлебки, среди пушистых ветвей иван-чая и густо воняющего перед холодами багульника. Воинственно всхрапнув, он ударил сильным копытом о землю. Вздрогнули травы, рассыпались сухие семена, из камней снялся табун куропаток, брызнули дождем багровые шишечки кровохлебки и задвигались красными волнами. Он затрубил грозно и требовательно, теперь уж обоими копытами поочередно отбрасывая ошметки земли и все ниже опуская голову с захлестнутыми яростью глазами.
Он привел с собою двух важенок, и ему надо было доказать им и всему этому послушному, добропорядочному стаду, небу этому, земле этой, миру этому — что он имеет право на любовь! И он завоюет ее или умрет!