Павел Далецкий - На сопках маньчжурии
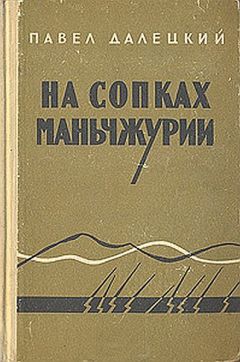
Обзор книги Павел Далецкий - На сопках маньчжурии
На сопках Маньчжурии
Вступление
Летом 1945 года нашу армию перебросили в страну, которая объединилась с нами для борьбы с общим врагом.
Все степи бескрайны, но монгольские степи поразили нас какой-то особой своей бескрайностью.
И огромное степное небо удивило нас: отдельные части его жили по-разному — на одном краю громоздились фантастической силы кучевые облака, на другом, побеждая ослепительный блеск солнца, всплескивались молнии, где-то за ними висели свинцово-синие полосы дождя, а над головой было светлое солнце, чистое небо, и мы знали, что облака к нам не дойдут, грозы и ливни нас не заденут.
А ливней в тот год было много («Девяносто девять лет не было летних дождей!» — многозначительно говорили старики). Степь, обычно в эти месяцы желтая, безжизненная, сейчас зеленела; цвел, нестерпимо благоухая, дикий лук. Белые орлы слетались к нашим лагерям, настойчиво разглядывая машины; миллионы полевок преследовали нас своим вниманием: норы их были всюду, и отовсюду смотрели на нас черные бусинки глаз. Орлы и мыши нас не боялись.
Все в армии были настроены торжественно: приближайся долгожданный день, когда мы могли ответить коварному и упорному врагу за все его посягательства на нашу землю, за кровь, которую он лил в Маньчжурии и Китае, пытаясь поработить великий китайский народ, а вслед за ним и все остальные народы Азии.
Командующий несколько раз уезжал к Большому Хингану, цепи которого синели на краю горизонта. Через плечо он вешал дробовик, и иным казалось, что они впрямь едет на охоту. С собой он чаще всего брал меня и капитана Коржа, дальневосточника, уссурийца, горячего охотника.
Мы приближались к горам, они вырастали перед нами в ясном воздухе своими желтыми увалами, резкими морщинами распадков, темными пятнами ущелий и долин, В этих горах и за этими горами был враг.
* * *Как-то наши друзья-монголы предложили поохотиться на волков.
— Товарищ командующий, — сказал Корж, — они поедут на конях, а мы уж по-нашему, по-танкистскому, на машине.
Командующий согласился.
Охота началась на заре. Полчаса мчались мы по степи, по зеленому плотному ковру. Я и капитан стояли в кузове, держась за кабинку.
Волков мы увидели издалека: то там, то здесь в лощине чернели точки. Что делали волки? Готовились к набегу, отдыхали или, быть может, держали свой волчий совет? Большой бурый волк стоял на гребне увала, вытянувшись в струнку.
— Вожак! — сказал Корж.
И действительно, волк издал короткий лающий вой, и в ту же минуту стаю точно вихрем подняло из лощины.
Водитель прибавил газу, но волки явно уходили.
— Для этой охоты нужна легковая, — заметил капитан. Он помолчал. — Мой прадед, который одним из первых пришел в Уссурийский край, — вот он охотник был, Что я?!
Волки, казалось, летели, едва, ради шутки, прикасаясь к земле.
Командующий выглянул из кабинки, крикнул:
— А все-таки догоним!
И как бы подтверждая его слова, начали отставать волчицы. В сотне шагов от нас бежала серая поджарая самка. Легкая пыль вырывалась из-под ее ног. Минута, другая, и мы нагоним ее. Но она метнулась в сторону, машина проскочила, сделала крутой поворот, должна была перевернуться, однако не перевернулась, и вот мы снова нагоняем зверя. Вдруг, когда она была от нас шагах в пятидесяти, она повернулась мордой к машине и села.
Это было так неожиданно, что шофер не успел затормозить, а капитан выстрелить, и зверь остался позади. Когда наконец машину затормозили и повернули, волчица была далеко и усталой рысцой труси́ла по степи.
Слышался топот. Скакали всадники. Все ближе, все ближе. Вот они пронеслись мимо нас с длинными цепами в руках.
Они окружали волков, они поворачивали их, и теперь волки покорно бежали туда, куда их гнали.
Стаю согнали в котловину, она сбилась в кучу, бежать было некуда: по гребню увала стояли люди.
Наступил час расплаты за все разбои, за безжалостную резню телят и маток в стадах аймака.
Охотники ринулись вниз. Они не стреляли — они били цепами. Мы с невольным изумлением смотрели на сыгранность облавы. Через четверть часа все было кончено.
Молодой арат Гуржап сдирал с бурого вожака шкуру.
— Удачная охота, — сказал я, присаживаясь около него.
Гуржап посмотрел в безграничную степную даль, потом на горы, синевшие сквозь дневное марево, и сказал:
— Удачная. Давно не было такой удачной. Сегодня мы взяли самого главного волка. Поедем со мной, товарищ майор, покажу волка.
Мы поехали. Несколько снежно-белых юрт прилепилось к склону увала. Женщины варили чай, огромные медные чайники закипали на таганках.
В одной из юрт лежал связанный человек, как показалось мне сначала — монгол.
— Оттуда! — Гуржап указал на горы.
Через несколько дней мы выяснили личность задержанного. Это был отъявленный диверсант, принесший много вреда молодой Монгольской Республике, японец Маэяма Кендзо.
Когда командующий услышал это имя, он задумался, затем сказал капитану Коржу:
— А ведь мне известно это имя.
— Откуда, товарищ командующий?
— Из очень далекого прошлого.
Он пошел взглянуть на Маэяму, Японец лежал в землянке на нарах.
— Маэяма Кендзо? — спросил командующий, разглядывая темное неприветливое лицо. — Я знаю вас по письмам одного из моих старых знакомых. Вы — с давних пор враг новой жизни. Кацуми, Ханако… Не напомнят ли вам что-либо эти имена? Давно это было, давно… Сорок лет назад.
Японец приподнялся. Глубокое изумление отразилось на его лице.
— Товарищ командующий! — воскликнул я. — Вы говорите так, что у меня возникает предположение… но это невозможно!
— Вы полагаете, что я не мог быть участником тех далеких событий?
Он прищурился, усмехнулся, а я подумал, что моложавый командующий в самом деле прошел больший жизненный путь, чем то казалось с первого взгляда.
* * *Впрочем, история с Маэямой скоро забылась, Начали ходить упорные слухи о том, что военные действия не откроются, но что армия будет стоять здесь долго. Слухи подтверждались: в подразделениях принялись сооружать вместительные уютные землянки, строили бригадные и дивизионные клубы, интенданты заботились о крепких и обширных складских помещениях. Мои Друг капитан Корж, с которым мы сделали немало походов, сказал мне:
— Сначала в этих степях я чувствовал себя неплохо… А теперь все раны болят. То ли жара на меня действует, то ли для моего сердца слишком высокие здесь плоскогорья… Словом, дела мои неважнец.
— Но ведь ты еще вчера чувствовал себя хорошо?!
— Вчера было не до болезней. Мы, уссурийцы, — ближайшие соседи японцев… Русско-японская война, потом интервенция, потом постоянные нарушения наших границ. Хасан, Халхин-гол… Из года в год, изо дня в день! У меня, как и у всех, была надежда, что советский народ скажет наконец свое веское слово… А теперь, понимаешь ли…
Я отлично понимал его. Когда человеку скучно, когда угасают его надежды, он может заболеть любой болезнью.
Через несколько дней я узнал, что раны и недуги капитана настолько дали себя знать, что его отправили в госпиталь на комиссию.
На комиссию Корж поехал рано утром. Народу там набралось много.
— Пока шла война, никто не признавался в своих болезнях, — говорила майор медицинской службы Лидия Евдокимовна. — Это относится и к вам, капитан. Вам надо по-настоящему лечиться. Если б вы не упрямились, я вас давно демобилизовала бы.
— Вы уж тут наговорите всякого, Лидия Евдокимовна! — с опасением сказал Корж.
Он прошел положенные испытания и узнал заключение комиссии. Его отправляли в тыл лечиться в стационаре, а потом пожалуйста — полугодовой отпуск..
Он позвонил мне по телефону, просил навестить его и сказал с грустью:
— Вот не думал не гадал — восемь месяцев баклуши бить!
* * *Я отправился к Коржу. Когда я выехал, солнце было высоко, а небо чисто, только на северо-западе темнела тонкая и как будто безобидная полоса. Машина прошла по узкой дороге между солончаками, поднялась на косогор и помчалась по черной степной колее.
Старшина, водитель «виллиса», всегда во время поездок любил вспоминать что-нибудь из недавнего прошлого. Сейчас он вспомнил, как брали мы Будапешт, как выбивали фашистов из Вены.
За разговором мы не заметили, как безобидная полоса на северо-западе превратилась в тучу. Через час она догнала «виллис» и обрушилась на нас дождем.
Это был невообразимый удар горячей воды. Дождь бил по степи, как по железной крыше. Ничего не было видно. Я ослеп от потоков, хлеставших по глазам, оглох от гула. Старшина клял себя за легкомыслие: он не захватил с собой брезентового тента.
Так продолжалось двадцать минут, И вот снова молодое солнце. Степь сверкала. Однако ливень оказался истинным бедствием для мышей: потоки, воды залили норы, и мыши утонули.



