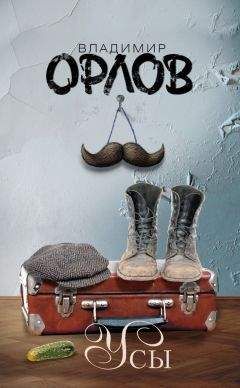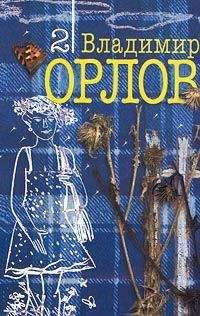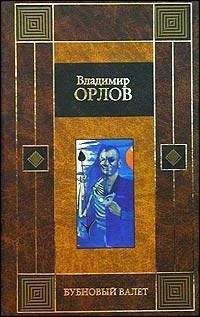Владимир Орлов - Трусаки и субботники (сборник)
– А это вот ты, – протянула мне карту Тамара.
На глянцевой картинке «под Васнецова» хмурился добрый молодец из «Псковитянки» или «Царской невесты», розовощекий, в лисьей шапке, в кафтане и с секирой отчего-то в левой руке. Масть молодца была бубновая.
– С чего ты взяла, что это – моя карта? – спросил я.
– А кто же ты есть? – сказала Тамара. – Ты и есть бубновый валет.
Никаких сомнений в голосе Тамары не было.
Совсем недавно я слышал от кого-то слова «бубновый валет»… От Валерии Борисовны!
– А К. В. – тоже бубновый валет? – поинтересовался я на всякий случай.
– Ну здравствуйте! – чуть ли не возмутилась Тамара. – Какой же он валет! Он – король! Король треф!
– А может, и туз… – в задумчивости произнес я.
– А может, станет и туз, – кивнула Тамара.
– При всем уважении к твоей бабушке, матери, тебе и картам, – сказал я, – гаданиям я не верю. Но мне все же интересно, кого ты считаешь моей любимой женщиной, той, что нет нынче рядом?
– Я тебе не открою, – сказала Тамара серьезно и даже с печалью в глазах. – Я не уверена, что все так и есть. Но я догадываюсь о ней… Наверное, ты удивился бы, узнав, о ком я догадываюсь, и, возможно, не обрадовался бы моим словам, потому я промолчу.
– Никого я не способен любить, – произнес я мрачно.
Желание вести разговор о любимой женщине у меня тотчас пропало. И разубеждать в чем-то Тамару не хотелось. Ну, уверила она себя (или меня намерена была уверить) в том, что она мне на время необходима, ну и ладно. Все же она чего-то стыдилась, наверное, потому и повторяла, что меня не убудет ее ублажать, что она по мне изнывала не год и не два, а я не замечал, а теперь-то она старается утешить меня («Неужели тебе не хорошо со мной, Васенька?», «Я разве что говорю…»).
– Ты в картах дока. И кто же он – бубновый валет-то? – спросил я. – Пиковая дама известно кто. А бубновый валет?
– Молодец-удалец! – рассмеялась Тамара. – С хлопотами.
– С розовыми щеками и секирой, как на васнецовской картинке…
– Много будешь знать…
– Полагаешь, не надо меня расстраивать?
– В каждой семье свои предания. И свои бубновые валеты… – Взгляд Тамара от меня отводила, но стала заметной тоска в ее глазах или предчувствие скверного. – Но пока ты, Васенька, везучий…
– На полторы недели, – вспомнил я ее недавние слова. Хотелось тут же услышать: «Ну почему же на полторы недели?»
– Может, и на полторы недели, – сказала Тамара, так на меня и не глядя, погрузившись в свою судьбу, – а может, и на больший срок. Дай Бог… И мое везение с твоим связано…
Ушел я от Тамары после ночи с индийскими изы сками часов в семь утра. Стояли мы друг против друга утомленные, Тамара прижалась ко мне, зашептала: «Не брани меня, Васенька, не считай бессовестной, я и впрямь по тебе изнывала и уж как могла старалась утешить тебя…»
Как вести себя с Тамарой далее, я не знал. И что у нее истинно на уме, не уяснил (то есть я этим не занимался). И конечно, не понял, кто она в моей «вертушечной» истории. Вынужденно ли она исполняла чью-то волю, находясь под кнутом и присмотром, или же была занята своей игрой, либо ради собственной выгоды (хотя бы со взыманием с меня «должков»), либо в надежде уберечь себя от неприятностей в случае, когда везучестям моим наступит предел? «Полторы недели» – отчего-то был назван срок. Осуждать Тамару было бы нехорошо. Да и ожидание от нее подвохов выходило делом неприятным. Она меня утешила и обогрела в уюте и чистоте своего дома, а я жду от нее подлостей… И все же в разговорах с Тамарой мною о фарфоровых приобретениях из коллекции Кочуй-Броделевича упомянуто не было. На всякий случай. И Тамара о них будто бы запамятовала. При расставании я чуть было не сказал о них, мол, принесу, а ты уберешь в коробки. Но раздумал. Боялся вовлечь Тамару еще в одну общую для нас проказу и полагал, что даю ей умолчанием возможность (при нужде) для оправданий или уловки. Мол, ни про какие изъятые Куделиным безделушки ничего ей не ведомо.
Но уже через день я стал сожалеть о том, что в условиях наших с Тамарой отношений безделушки не оговорил. Явилось ко мне убеждение в том, что одно дело – ласки в постели, другое дело благополучие или тюрьма, и что Тамара, как человек жизнелюбивый и цепкий, в любых дрязгах выкрутится и найдет способ от меня отъединиться. И начал я думать о том, что солонками она еще сможет (потому и молчала о них) меня шантажировать (Фу-ты! Зачем же так грубо о доставившей тебе удовольствие женщине!), ну не шантажировать, а держать в напряжении и в случае новых своих изнываний принудить меня к отдаче еще двух должков.
Бог ты мой! Каким глупейшим и пошлым стало мое существование!
«Надо бы найти Обтекушина, – пришло мне в голову. – Найти его, поговорить с ним и надраться!»
Но при чем тут Обтекушин! При чем в нынешней-то моей жизни Обтекушин!
«Полторы недели ты еще везучий…» – выведено гадалкой в третьем поколении. А может, не в третьем, а в седьмом. Что же они тянут, что же издеваются надо мной?!
44
В те дни я имел разговор с Башкатовым. Не скажу, чтобы этот разговор меня особо обрадовал.
К тому, что Башкатов мне открыл, я уже был готов. И ход обстоятельств подталкивал к догадкам, и предчувствия подсказывали объяснения, в какие не хотелось бы верить.
Но случилась в разговоре и одна неожиданность, удивляться которой, впрочем, тоже было нельзя.
Башкатов звонком пригласил меня к себе в комнату, сидел он в ней нынче один и, впустив меня, тут же дверь запер.
– Ну ты, Куделин, даешь! – Башкатов глядел на меня с восхищением, будто на космонавта, вернувшегося с Венеры, или на снежного человека, наконец-то изловленного им. – Кто бы мог ожидать от тебя! Я не ожидал. А ты уже два раза прошелся по канату над Ниагарой. Один раз в случае с Цыганковой. Второй раз вот теперь.
Напоминание о случае с Цыганковой могло бы меня обидеть или даже оскорбить. Но Башкатов, видимо, не полагал быть нынче дипломатом или деликатным собеседником, он скорее походил на только что откушавшего Ноздрева, удивленного нежданным подвигом зятя Мижуева. Но он мог и не знать о нашем разрыве с Юлией Ивановной Цыганковой. Меня же упоминание Цыганковой не обидело и не огорчило.
– Какие такие проходы над Ниагарой? – спросил я. – И в особенности тот, который теперь?
– А ты будто не знаешь? – захохотал Башкатов.
– Не знаю, – сказал я.
– Ну не хочешь говорить, и молчи. А я-то уж точно не мог предположить, что ты способен на этакого полета розыгрыш. Снимаю кепку! Одно дело женщина. Это ее право или блажь выбрать из табуна, что вокруг нее пасется и взбрыкивает, самого плюгавого и хромого. Это я не про тебя, не про тебя. Это я про женщину вообще. А вот чтобы такой розыгрыш учудить, чтобы публику потешить, дела уладить для всех наилучшим образом, да самому целым при этом остаться, это я тебе скажу!..
– А я целым оставлен? – спросил я, растерявшись.
– Но вот же ты сидишь передо мной целый!
– Не понимаю, о каком розыгрыше ты говоришь, – спохватился я.
– Ну не понимаешь, старик, и не понимай, – надулся Башкатов. – А я-то призвал тебя, чтобы извинения свои выказать и открыться в своем розыгрыше…
– Но я и впрямь не знаю, что ты признаешь моим хождением над Ниагарой, – продолжал я валять дурака. – Мне было бы интересно узнать об этом. Не тебя ли я разыграл? И какие дела уладил?
– Ну, это уже, старик, скучно, – поморщился Башкатов и палец отправил исследовать левую ноздрю. – Ты все мое воодушевление сбил. Я уже в двух местах сказание о тебе слышал. Фамилию, правда, не называли, им твоя не нужна, а другие они произносили, но я тебя вычислил. Розыгрыш твой, то есть не твой, а неизвестного шутника, произвел впечатление. Вчера я был – по делу! по делу! – в компании важных дуралеев, по чьему неразумению отменили прогулку на Луну, и там анекдотец о тебе прозвучал в иной, правда, трактовке… Я-то надеялся от тебя кое-что услышать, но чувствую, ты открывать рот не намерен… – Мне нечего тебе сказать.
– Жаль, жаль… А я не следователь. И потому меня не пугайся… Но ты же знаешь, что я один из самых осведомленных людей в Москве. И энергетика у меня такая, что самая немыслимая информация ко мне притекает, минуя магнитные и всяческие другие поля. И то, что мне нужно разузнать о твоем розыгрыше, я разузнаю. А пока я пребываю в зависти и с легендой в воображении…
– Это ты-то, Владислав Антонович, можешь завидовать комулибо из-за чужих розыгрышей? – выразил я сомнения. – Позволь тебе не поверить.
Я уже упоминал как-то, что в ту пору в нашей редакции шутник шутника погонял, а розыгрыши были способом сохранения житейской энергии и добродетели. Бывали розыгрыши веселыми, безгрешно добродушными, но случались они и нелепыми, дурацкими, а то и злыми. Правда, иногда их результаты удивляли и самих шутников. Скажем, фельетонист Комаровский вместе с коллегой по отделу Волыновым, удовлетворительно отобедавшие в «Антисоветской» шашлычной, посетовали на приятеля, очеркиста Подкопаева, отказавшегося запивать с ними люля-кебабы. Подкопаев сидел в своем кабинете, через стену от шутников. Комаровский позвонил ему, назвался директором студии имени Горького, выразил восхищение его очерками, в особенности – последним, и пригласил к себе в канцелярию. Завтра, в одиннадцать, для творческого собеседования, если, конечно, уважаемый автор сможет прий ти. Подкопаев в ответ пропел величальную кинематографу и заявил, что не только придет, но и прилетит. «Как прилетит, так и отлетит!» – обрадовались Комаровский с Волыновым. Назавтра они, словно сладострастные старцы явления Сусанны, поджидали возвращения Подкопаева с фабрики юношеских грез. Готовы были их сочувствия по поводу конфуза и уныний очеркиста. А он влетел в шестом часу в их кабинет, размахивая известной в нашем миру бумагой: «Братцы! Народ меня знает и любит! Договор! Фильм! Режиссер Ростоцкий! Аванс!» Директор студии ни о каком Подкопаеве не слыхал, но засомневался: а вдруг что-то запамятовал, очеркиста принял, сочинение его одолел за полчаса, увидел в нем фильм и распорядился сейчас же подписать контракт и выдать аванс. При этом Подкопаев был обсыпан лепестками киношных, то есть ничего не значащих похвал. Комаровский с Волыновым приуныли и решили впредь шутить осмотрительнее. Примирили их в тот день с действительностью две бутылки коньяка, обеспеченные авансом Подкопаева, то есть фактически – их розыгрышем.