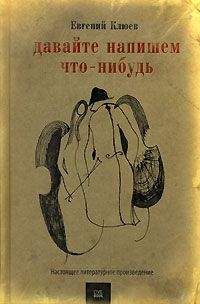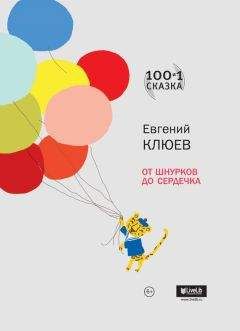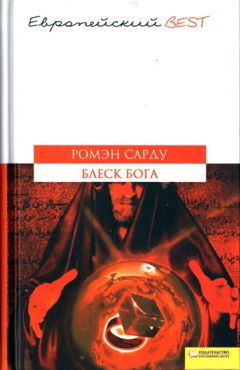Евгений Клюев - Translit
Только знал он уже: страшная ему предстоит ночь – последний перегон, дальше-то он справится, от Мальмё до Копенгагена рукой подать, только-бы-нам-ночь-простоять – ему снова пять лет, мама читает Мальчиша-Кибальчиша, и все так понятно в мире… про нашу конницу и буржуинские полчища! Хотя ведь и Мальчиш-Кибальчиш – тоже только фэнтези, грубое фэнтези советских времен!
Он запер за собой дверь, включил свет в душе и разглядывал свои посветлевшие волосы… «SO2 обладает отбеливающими свойствами, критическая температура 157 градусов» – как получилось, что номер его дома – 157?
Это дьявол курил трубку с черносливом, это дьявол спел ему песенку bye-bye-boy и заманил сюда, это все дьявол.
Хотя ведь… есть у него (у него, у которого ничего уже, кажется, нет!) кое-что с собой. Последний подарок спасателя Курта – возьми-авось-пригодится-в-трудную-минуту… а сейчас трудная минута как раз:
Schnypp, schnapp, schnorum, Rex Basilorum,
Schnypp, schnapp, Schnupftabak,
I ha kei Clmitzer Gäld im Sack.
Песенка Курта. Песенка, где в одном контексте – табак и Rex Basilorum! Не дьявол, значит – с какой же стати дьявол? Гуннар просто дурак. Спасибо, Курт… как бы еще разобраться с этим твоим «одним контекстом»!
Надо все-таки, наверное, назад: вернуться, перепрожить жизнь заново. Кстати, его с детства волновал этот мотив – когда предлагали жизнь перепрожить: такая очевидно заманчивая перспектива – и ни одного желающего! Во всех притчах и сказках, которые он помнил на эту тему, герой, получив соответствующее предложение, поначалу, вроде, радовался, однако в самый последний момент почему-то непременно отказывался – приведя в свое оправдание тот или иной хилый аргумент типа я-свою-жизнь-достойно-прожил-а-другой-не-надо… прямо какой-то повальный общечеловеческий буддизм: боязнь новых реинкарнаций!
А вот он бы, наверное, все-таки принял предложение. Вопрос только в том, сохранилась ли бы у него в новой жизни память о старой, потому что, если нет, тогда действительно – какой смысл? Новая жизнь затем нужна, чтобы старую не повторять, но если ты не помнишь, какая была старая, то просто опять живешь словно впервые, и никакой твой предшествующий опыт не нужен. Да и само слово «реинкарнация» ни к чему, когда нет памяти об «инкарнации»! И, между прочим, новую жизнь тоже ведь, скорее всего, не Бог предлагает – тоже ведь, скорее всего, дьявол.
Впрочем, сидеть вот так и предаваться размышлениям о дьяволе… несколько оно пубертатно. Пу-бер-тат-но-ва-то. Хотя он и подростком-то – так чтобы по-настоящему – не особенно озабочивался ролью дьявола в нашей жизни: отсутствовал как-то дьявол в его расчетах… да и вообще (если уж совсем положа руку на сердце) был для него фигурой, скорее, театральной, почти раешной: борода клинышком, черная накидка, копыто, красный дым, мерцание света… запах серы, кстати, отсюда же – ну и, дескать, простите-бога-ради-но-ужасно-смешно. Так что, отрекомендуйся ему кто-нибудь дьяволом, он, наверное, прежде всего спросил бы: «Вы, простите, это серьезно?»
Телефон прозвенел один раз и смолк, однако экран, засветившись в момент звонка, так и продолжал светиться. «Торульф» – прочитал он на экране и нажал на «Ответить», сообразив, что функция звонка, наверное, отказала. Сказать ничего не успел – сразу же попав в уже ведущийся диалог:
– Ну, слава Богу, слава Богу, – бормотал Торульф, – я прямо поблагодарить тебя за это готов! Как она реагировала?
Второй голос был незнакомым:
– Нормально, Торульф, спокойно реагировала – сказала просто: я знаю, что от тебя правды не дождешься, и еще сказала, что у нее и у самой были кое-какие подозрения…
– Ну, слава Богу, слава Богу, – повторил Торульф. – И в твоей жизни, небось, покой настал?
– Настал, и я к Копенгагену приближаюсь.
– Ого, – озадачился Торульф, – надо же, как ты продвинулся… а всего-то полдня не говорили… Я хотел завтра утром позвонить, но, вот, не удержался, прости.
– Я ведь никогда в это время не ложусь, Торульф! А скажи… тебе тот, alter ego, не звонил больше?
– Да нет, Бог миловал. Наверное, понял, что кого-кого, но уж Торульфа-старика вокруг пальца так просто не обведешь.
– Это точно, – во втором голосе была улыбка. – И я еще что забыл тебе сказать: Манон в Стокгольме выступает, я афишу видел.
– А саму Манон?
– Саму Манон – нет.
– И ты хочешь, чтобы я поверил?
– Поверишь, когда узнаешь почему! Я ведь на ресторанчик, где она выступает, случайно набрел – решил, что приду на само представление, а ресторанчика потом найти не удалось… я в промежутке на такси на вокзал отправился, вещи кое-какие из чемодана забрать, ну и… в общем, искал ресторанчик до последнего момента, когда уже уезжать, – как в воду ресторанчик канул.
– А может, и не было ресторанчика-то?
– Ужас, Торульф, я ведь о том же подумал: может, и не было.
Всё.
Больше не было сил слушать.
Он осторожно положил телефон поверх одеяла и просто смотрел на серо-синий экран, не сосредоточиваясь на смысле все еще доносившихся до него слов. Он с радостью бросился бы вон из купе, но – не бросался, чтобы звуком открывающейся двери не выдать своего присутствия.
Переждав телефонный разговор и отметив, что экран погас, он отключил телефон, спрятал в карман и вышел в коридор. Тут-то, в коридоре, его и затрясло: дрожь была такая крупная, что напоминала судороги. Когда она немножко унялась, он двинулся в сторону Гуннаровского купе: плевать на все приличия, он просто скажет Гуннару, что страшно ему одному, наврет, что с ним так часто бывает, Гуннар поймет… скорее всего.
На стук его – сначала осторожный, потом все более настойчивый и наконец просто барабанный – Гуннар не отозвался. Не отозвался и никто из соседей, хотя уж барабанный-το стук – бой! – должен был привлечь внимание всего вагона… или они такие воспитанные люди, эти випы: не моя, дескать, проблема – не ко мне стучат?
Минут через пять от этой версии пришлось отказаться: он успел уже и постучать и даже побарабанить во все двери, – теперь, стоя у последней и глядя в даль коридора, он твердо знал, что в этом, по крайней мере, вагоне больше никого нет. И нервный Гуннар, скорее всего, тоже перебрался в другой вагон.
Если, конечно, в этом поезде существует другой вагон.
Бальзак в новелле «Сарразин» пишет такую фразу, говоря о переодетом женщиной кастрате: «То была истинная женщина, со всеми ее внезапными страхами, необъяснимыми причудами, инстинктивными тревогами, беспричинными дерзостями, задорными выходками и пленительной тонкостью чувств»{38}. Кто говорит так? Может быть, герой новеллы, старающийся не замечать под обличьем женщины кастрата? Или Бальзак-индивид, рассуждающий о женщине на основании своего личного опыта? Или Бальзак-писатель, исповедующий «литературные» представления о женской натуре? Или же это общечеловеческая мудрость? А может быть, романтическая психология? Узнать это нам никогда не удастся, по той причине, что в письме как раз и уничтожается всякое понятие о голосе, об источнике. Письмо – та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего.
Невинность лжи в том, что рано или поздно всякая правда утрачивает актуальность. И – как в рассказе Борхеса – Авель и Каин идут рука об руку и не могут вспомнить, кто из них кого из них убил. Но Борхес всегда прав только наполовину – наполовину Борхеса, ибо Борхесов, кто же не знает – два. На одного из них и прав Борхес, потому что ведь время идет дальше. И когда оно проходит, Авель и Каин сливаются в одном человеке – имя его, допустим, Авин, и этот Авин – напоминаю, когда время проходит – уже не убит, но в преклонном возрасте умирает своей смертью в окружении детей и внуков. А время идет дальше, дальше и дальше – пока Авин не исчезает из памяти, и тогда его дети и внуки оказываются вовсе не его детьми и внуками, но детьми и внуками Бога.
Он знал, что у его лжи будет короткая жизнь, ибо правда не нужна будет тогда, когда он окажется в Копенгагене и когда уже перестанет иметь значение, как он добирался и как он добрался туда. Он позвонит и скажет мама-я-в-Копенгагене – и мама полностью успокоится: она всегда спокойна, когда он в Копенгагене.
Час приближался. Он приближался уже два дня и вот-вот должен был приблизиться совсем. Но до этого все-таки надо было много чего понять и еще кое на чем поставить точку. За свой переезд он уже поставил сколько-то точек, м-да… скажем, точку на Манон. Если бы ему день назад сказали, что однажды – не сейчас, а вот… через много-много-много-лет! – он будет вынужден поставить точку на Манон, он улыбнулся бы: есть у него одна такая специальная улыбка – испытующе-уничтожающая, она предполагает еще совсем особенный взгляд, поверх очков.
Улыбка и взгляд доктора: ну-ка, ну-ка, ну-ка… какой интересный сумасшедший!