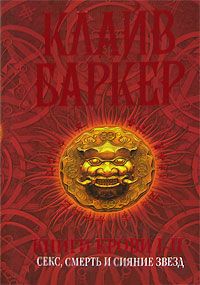Александр Овчаренко - Сказки тридевятого округа
Продолжал Моня, глотнув воздуха, и голос его обретал трагические обертоны. Обычно на этом куплете Моня находил особо чувствительную одесситку и, глядя прямо в её слезливые глаза, окончательно входил в придуманный им образ.
«А сестра моя в неволе!
Сам я ранен в чистом поле,
Отчего и зренье потерял».
Отец Мони, Яков Гершевич, был хоть и преклонных лет, но всё-таки живой, мать тоже здравствовала, а родной сестры у него отродясь не было. Однако все, кто слушал в этот момент Моню, свято верили, что он действительно круглый сирота, покалеченный на фронтах Гражданской войны.
«Я мальчишка, я калека!
Мне двенадцать лет…», —
выводил Моня чистым, но полным отчаянья голосом и скрипочка в руках Розочки плакала с ним в унисон.
«Я прошу у человека,
– Дай же мне совет…»!
После этой строчки Моня привычно обводил окружающих жалостливым щенячьим взглядом, и люди стыдливо опускали глаза, словно каждый из них был повинен в несчастье маленького горбатого музыканта.
«Где мне можно приютиться
или богу помолиться»?
В этот момент голос Мони словно обрывался на высокой ноте… наступала короткая, но полная внутреннего напряжения пауза, во время которой замолкала скрипка, а длинные, как у пианиста, пальцы еврейского мальчика замирали на гитарных струнах.
«Ах, как надоел мне этот свет»!
Последнюю строчку Моня выдавал в полнейшей тишине, понизив голос сразу на два тона, словно по секрету признавался слушателям в своих сокровенных, но грешных мыслях.
«Граждане! Купите па-п-и-р-о-сы»!
Припев Моня доигрывал, уже мысленно прикидывая, сколько мелочи на этот раз сбросят в его картуз сердобольные слушатели. И когда последняя взятая Моней нота таяла в вечерней прохладе приморского города, Роза снова вскидывала смычок и выдала два пронзительных финальных аккорда.
Деньги Моня делил по-честному – пополам. К деньгам Моня относился уважительно, но никогда не жадничал. Более того, такой щепетильный вопрос, как подсчёт и делёж выручки он поручил сестре и свою долю брал только из её рук.
Так было и в тот памятный летний вечер, когда среди слушателей он приметил молодого коренастого мужчину в белом полотняном костюме и жёлтой соломенной шляпе канотье. За спиной мужчины стояли два бугая, несмотря на тёплый вечер одетые в тёмные пиджаки и косоворотки. Правая пола пиджака у обоих громил была подозрительно оттянута книзу. Пока господин в белом костюме наслаждался пением уличного музыканта, телохранители постоянно вертели головами и никого близко не подпускали.
– Шо бы я так жил, як ты спиваешь! – сказал господин в белом костюме, когда Моня закончил играть и бросил в картуз целый рубль. После чего странная троица с достоинством направилась в пивную.
Поздним вечером Розочка подвела финансовый баланс. За вечер в картуз Мони перекочевало 60 копеек мелочью и 1 серебряный рубль. Рубль не делился, и она протянула его Моне, признавая этим жестом его старшинство. Моня повертел рубль в руках, подумал и вернул его сестре.
– Мамка твоя по-прежнему хворает? – тихо спросил он.
– Хворает, – со вздохом ответила девочка. – Дохтура бы надо, да дохтур к нам без денег не пойдёт, а фельдшерица хоть к нам и заходит, да помочь мамке ничем не может.
– На перекрёстке Преображенской и Садовой живёт Лейба Канторович – очень хороший врач! – произнёс Моня. – За визит он берёт не менее трёх рублей. Отдашь ему рубль и скажешь, что это деньги Мишки Япончика, и что Япончик будет очень разочарован, если узнает, что такой уважаемый господин, как Конторович, отказался помочь единоверцам. Запомнила?
– Угу! – кивнула девочка головой и, зажав в руке денежку, счастливая поспешила домой, а Моня ещё долго сидел под каштаном, думая о том, что если Япончик узнает о его сегодняшней проделке, то запросто оторвёт ему голову и не посмотрит на то, что Моня его единоверец.
«Ах, как надоел мне этот свет»!
* * *Герман и Ирина оказались в «Тридевятом царстве» так быстро, словно перешагнули порог и вышли из парадного на улицу. Улица оказалась широкой, и по сравнению с Москвой малолюдной. Однако на этом чудеса не закончились: Герман с удивлением увидел, что на его прелестной спутнице вместо роскошного (по его понятиям) французского платья надето скромное коричневое платье курсистки с белым атласным воротничком и кружевными манжетами. Сам же Герман оказался одет в летний светлый костюм, шёлковую бледно-голубую рубашку и такого же цвета галстук-бабочку «кис-кис». В руках у него оказалось лёгкая трость с серебряным набалдашником в виде львиной головы. Он с испугом обшарил карманы пиджака и успокоился только после того, как обнаружил бумажник с пластиковыми билетами и крупной суммой царских ассигнаций, которые он купил за доллары у знакомого московского нумизмата. Герман спрятал бумажник во внутренний карман и невольно залюбовался своим отражением в витрине магазина «Готовое платье».
– А, знаешь ли, Ирэн, это действительно недурственно, – сказал он своей ещё не пришедшей в себя молоденькой спутнице. – Ирэн! Хватит закатывать глаза! Возьми себя в руки и пошли осматривать город. Да не хватайся ты за руку! Для твоего папочки я ещё не слишком стар, поэтому скромно потупив глазки, семени рядышком.
– Если я буду смотреть в мостовую, то теряется смысл моего здесь пребывания, – наконец-то откликнулась девушка. – Я актриса! Я должна впитывать в себя, как губка, все мелочи, все штрихи этой эпохи! Я должна видеть, что и как носили одесситы в начале века, какие платья были на дамах, как общались между собой люди разных сословий, какие словесные обороты были в ходу, как правильно подать руку для поцелуя, как садиться и слезать с фаэтона, и ещё много чего такого, о чём и не слышали наши преподаватели по актёрскому мастерству, родившись через полсотни лет после сегодняшних событий.
– Понимаю, тогда хотя бы делай благопристойный вид.
– Это нам господин адвокат запросто, это нам как два пальца… об асфальт!
– Цыц! Запомни: сейчас мы не в Москве! Мы в параллельной реальности, и если хочешь провести это время с пользой – играй по установленным правилам.
– Убедил! Буду играть по правилам. Что наша жизнь – игра!
– Интересно, на какой мы улице?
– А чего гадать? Вон табличка на углу здания.
– Ага, вижу. Это улица Преображенская. Ну что же, пошли по Преображенской!
Идти по летней улице приморского города было легко и приятно. Полдень уже миновал, и тротуары были занавешены лёгкой кружевной тенью от развесистых каштанов и акаций. Одесситы были радушны и улыбчивы. Один гимназист даже неосторожно толкнул плечом Германа, засмотревшись на его очаровательную спутницу, но тут же, осознав свою оплошность, рассыпался в извинениях и, сконфуженный, поспешно скрылся в переулке. Минут через пять Герман внезапно остановился и, склонив голову, восторженно зашептал в розовое ушко курсистки:
– Ирен! Видишь дом под номером 62?
– Не слепая, конечно, вижу. И что в нём такого особенного?
– Присмотрись внимательней!
– К архитектуре строения?
– Нет! К вывеске!
– Вывеска как вывеска, ничего особенного! На мой вкус даже немного аляповатая.
– Сами Вы, барышня, аляповатая! Прочитай, что там написано.
– Ну, «Гамбринус», и что из этого следует?
– Эх, темнота! И чему тебя только в твоём театральном вузе учили?
– Много чему учили! Например, не шляться по подвальным пивным, где бухает пролетариат вместе с деклассированным элементом. Я туда не пойду, и не проси!
– Ирэн! Ты не понимаешь! «Гамбринус» – это не просто пивная, это знаменитая пивная! Это уголок той самой Одессы-мамы, которую ты собираешься воплотить на экране. О «Гамбринусе» ещё Бабель писал. Для одесситов «Гамбринус» – это такая же неотъемлемая часть Одессы, как для москвичей знаменитое кафе «У Гиляровского» в Столешниковом переулке.
– Я не город собираюсь показывать, а жительницу Одессы начала ХХ века, а это, как говорят одесситы, две больших разницы. Кстати, напротив твоего «Гамбринуса» народ чего-то собрался, пошли и мы посмотрим.
– Кажется, там уличные музыканты представление дают. Ну что же, пойдём, посмотрим, заодно и с местным репертуаром ознакомимся.
В это время Моня, стоя на чахлом газоне под тенью акации, наигрывал на своей старенькой гитаре хорошо известную одесситам блатную песенку. При этом Моня корчил слушателям рожи и делал посильные телодвижения, способные, по его мнению, иллюстрировать текст незамысловатой песенки про горячо любимый в Одессе преступный элемент.
– С Одесского кичмана[15] сбежали два уркана[16]!
– выводил Моня с деланной хрипотцой в голосе. При этом он выразительно двигал плечами и топтался босыми ногами на одном месте. Зрители одобрительно хлопали в ладоши и дружно кидали мелочь в засаленный картуз музыканта.