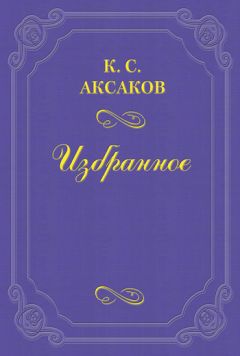Александр Яблонский - Абраша
– Что ж ты наделал!
– Да это не я, это ты наделал.
– Какая теперь разница. Ничего не вернешь.
– Не вернешь, а разница большая…
– Что я могу для тебя сделать?
– Ничего… Впрочем, не трогай сына…
Владимир Сократович и сам решил, что сына «Лингвиста» он оставит в покое – хватит с этой семьи. Дело №…/… он закрыл. «Лесника» отключил от Сергачева. Казалось, можно было вздохнуть и забыть. Но не вздыхалось. Ему было искренне жаль и Александра Николаевича, и его жену, ему было жаль себя – совершенно одинокого и грешного, а то, что он грешен, он прекрасно понимал, как и понимал: пришлось бы ему начать это «Дело» сначала, он бы поступил точно так же, даже зная, чем оно закончится и для «кролика», и для него самого. Постепенно приходило осознание простой истины: ему будет не хватать «Лингвиста» до конца дней его, и он никогда не забудет этого умного, спокойного и порядочного человека – что-что, а разбираться в людях Владимир Сократович умел, – и чем далее, тем более будут мучить его угрызения совести и, вместе с тем, будет наполнять гордость за хорошо – чисто проделанную работу; «Дело» он закроет, но сына несчастного правдоискателя в покое не оставят, и, если не он – Кострюшкин, – то тот, кто придет ему на смену, кому неведомы атавистические рудименты: сомнения, раскаяния, раздумья, – будет «пасти» и дожимать сына «без вести пропавшего», и не только потому, что «яблоко от яблони», хотя и поэтому тоже: парень с гнильцой – думать любит, – а по простому закону его Службы: если кто и попадал в поле зрения, то сеть набрасывалась на всю семью. И пропадет малец, если, конечно, не исчезнет, не растворится.
Владимир Сократович подошел к окну. Облачное небо отражало блики праздничной иллюминации, сырой безлюдный Литейный желтушно светился безжизненными огоньками электрических лампочек, обрамлявших транспаранты и портреты руководителей партии и государства, развешанные на здании Артиллерийского училища; у левого глаза Косыгина лампочка плохо контачила и периодически гасла, поэтому казалось, что вечно хмурый глава правительства, забыв о своем статусе, испуганно и заискивающе кому-то подмигивает.
Полковник хотел было выпить французского коньяку за упокой души Александра Николаевича, но потом передумал, махнул рукой, спрятал письмо и все бумаги, аккуратно разложил карандаши и ручки, надел свое видавшее виды демисезонное пальто, тщательно проверил, закрыты ли сейф и ящики стола, поправил указательным пальцем аккуратно подстриженные усы, потушил свет и направился к служебному выходу № 7, что на Воинова улице.
* * *Господи, это же так непросто. Неоднозначно и зыбко. Но не примитивно и лживо, как тысячелетия читают эту трагедию. Почему же самые высоколобые интеллектуалы отворачивались и отворачиваются от этой двери, ведущей к истине, и тупо бьются головой в непробиваемую стену «вины народа Израилева» в богоубийстве? – « Евреи – самые ничтожные из всех людей… Они – коварные убийцы Христа… Евреи – гнусные христоубийцы, и за убийство Бога невозможно прощение или искупление… Обязанность, возложенная на всех христиан, – ненавидеть евреев… » – и это один из самых авторитетных – Иоанн Златоуст. « Бог всегда ненавидел евреев » – это уже совсем бред. Я свой выбор сделал – миловал меня Господь. А те – о негодяях не думаю, думаю о достойнейших – и Лютер, и Иоанн, и Августин, и Ориген, и через века – и Вольтер, и Достоевский и… Легион им имя. – Неужели не понимали, что творят? В любом случае народ еврейский тысячелетие нес кару – страшную кару за преступления, которые он никогда не совершал, а если и был причастен, то самым косвенным образом. Народ, давший миру Иисуса, платил миллионами жизней за то, что варвары с берегов Тибра его распяли. Возможно, это самая большая трагедия человечества, самая большая его ошибка, даже не преступление, а больше – глупость. И у основания этой пирамиды лжи, ненависти и высшего беззакония стоял человек, отличавшийся не только великими знаниями, но и честностью, мужеством, богоизбранностью. Всё было дано ему: испытать гонения, ссылку, ненависть всесильной Императрицы Евдоксии, познать тайны Священного Писания, комментируя их, обогатить православное пастырское богослужение великим творением «Шесть слов о священстве», а православный мир чином Литургии, антифоном к всенощному бдению и богословскими трудами, прославиться в веках своим боговдохновенным словом великого проповедника, – всё было дано ему, не доставало лишь самой малости – любви и сострадания, всепрощения и терпимости, завещанных Христом: « А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных ». И отсутствие этой «малости» обернулось морями крови и неисчислимыми страданиями в веках. « Мученики испытывают особую ненависть к евреям, поскольку евреи распяли того, кого они особенно любили » – не мог не знать Златоуст, что лжет, но лгал, не мог не знать, что не Христова любовь в его словах, но произносил их, не мог не чувствовать, что последует за этим, а последовало, практически сразу же – погромы сотрясли Антиохию уже в начале V века, но презрел свое предчувствие. Ради чего? – Все оправдания «Слова против иудеев» Иоанна Златоуста: межрелигиозные распри в Антиохии IV века, необходимость разорвать пуповину между иудаизмом и молодым христианством, ради окончательного становления новой прогрессирующей религии – всё это меркнет перед заплаченной ценой – миллионами жизней и фактическим забвением важнейших заповедей Христа. Но если в том историческом контексте есть толика оправдания, то какое оправдание есть сегодня? После Холокоста мир содрогнулся, и Христианский мир – и консервативные католики, и либеральные протестанты преисполнились раскаянием за содеянное: равнодушие к преступлениям нацизма и, главное, за веками удобряемую почву для расового антисемитизма. Протестанты даже пошли на пересмотр постулатов веры. Лишь Православие – МОЕ Православие осталось равнодушным и не заметило всех катаклизмов современного мира. И по сей день звучит проклятие сонмищу богоубийц с церковных амвонов. И по сей день мы пьем это отравленное зелье, и по сей день каждый из нас – и гонимый, и гонитель пожинает плоды, засеянные полтора тысячелетия назад… Каждый из нас отравлен – и гонимые, и гонители. Но я буду с гонимыми. Я всегда был с гонимыми, с оболганными. Это мой выбор.
* * *Отец Борис, отпевавший Николая Александровича Срезневского в Спасо-Преображенском соборе, не был удивлен несовместимостью двух групп людей, пришедших проститься с усопшим: такое случалось, не часто, но случалось. Около гроба сгрудились люди скорее сельского вида: их годами обветренные, загорелые лица с молочной полосой верхней части лба, прикрываемой обычно во время полевых работ кепками, платками или повязками, такие же коричневые, пропитанные серой земляной пылью руки, оттеняемые бумажной белизной «манжетов» кисти и запястья, пальцы с потрескавшейся кожей и обломанными черными ногтями, неуклюжие движения и повадки людей, теряющих в городе естественную ловкость, даже грацию, органично проявлявшиеся в природной сельской среде, одежда, явно вытащенная из пыльных сундуков по этому печальному, но торжественному случаю, – всё это объединяло их, не заслоняя, однако, каждую индивидуальность. Вот – типичный трезвый алкоголик, с беспокойным, бегающим взглядом, сухими, часто облизываемыми губами, суетливыми движениям рук, постоянно одергивающих топорщащийся пиджак, – опытный глаз отца Бориса сразу же выделил его из толпы провожавших: «не может дождаться, бедняга, поминок!». От него не отходила полная подвижная женщина, ни на секунду не спускавшая цепких тревожных глаз со своего благоверного. Около гроба постоянно находилась миловидная женщина средних лет с заплаканными глазами, около нее, поддерживая ее под руку, стоял высокий крепкий мужчина с длинными мохнатыми ресницами, обрамлявшими глубокие синие глаза. Они, видимо, были родственниками вдовы. Еще один мужчина привлек внимание отца Бориса – он стоял прямо у ног покойного, крестился и плакал, не скрывая и не утирая слез. В отличие от всех остальных, крестившихся неловко и непривычно, посматривающих на соседей, что бы вовремя осенить себя крестным знамением, этот мужчина осенял себя крестом привычно, автоматически. Так же как и стоявший рядом старик с зеленовато-седой бородой – бесспорный расстрига. В отдалении кучковалась группа университетского, причем, скорее, гуманитарного круга. Впрочем, отцу Борису не надо было делать особых умозаключений, основываясь на своих наблюдениях. Обрывки их разговоров и прощальное слово одного старенького согбенного профессора, тихим голосом говорившего о таланте усопшего, о его эрудиции и неординарном мышлении, честности человека и ученого в прошлом, о трагедии выдающейся семьи, прервавшей свою историю после столетий блистательного бытия в науке, о супруге покойного – незауряднейшей личности, с которой он скоро воссоединится – всё это выдавало в этой группе провожавших людей совершенно иного уровня, другого мира, нежели близкое окружение новопреставленного Николая. Вдова – молодая женщина с сухими красными глазами сидела неподвижно всю церемонию, не проронив ни слова, ни слезинки. Она вцепилась побелевшими от напряжения длинными пальцами в край гроба и не сводила глаз, не мигая, казалось, не дыша, с лица покойного. А лицо его было спокойно, умиротворенно и как бы задумчиво. Было такое впечатление, что он что-то рассказывает, виновато и смущенно улыбаясь, этой женщине – явно гражданской жене, – а она напряженно вслушивается в его рассказ, пытаясь не упустить ни слова…