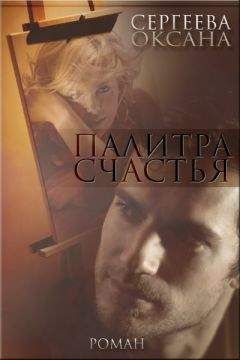Захар Прилепин - Обитель
Из раздевалки вышел ещё один, очень здоровый, мужик в подштаниках. Остановившись посреди предбанника, он внимательно посмотрел на Артёма.
– Ещё одного нашли? – спросил он. – Тоже в расход?
– Ткачук, – не расслышав его, сказал Горшков, – пусть шакал сапоги отмоет, – и махнул свободной рукой в сторону Артёма.
– Пусть пока отмоет, – ответил Ткачук и прошёл в парилку.
– Мой сапоги, шакал, – сказал Горшков Артёму.
Все сапоги были в человеческой крови, поэтому так странно отсвечивали.
Артём, ничего не помня, не думая и не зная, взял один сапог, поискал ему пару и даже нашёл. С этими сапогами он двинулся в сторону парилки, но его неловко пнул по ноге один из сидевших, так и не выпустив своей волосатой жабы из кулака:
– Куда, блядь? Так и будешь туда-сюда ходить с сапогами? Таз налей и замывай на улице, блядь… безмозглый хер.
В другой руке мужик держал стакан с водкой и немного расплескал её, пока ругался.
Артём увидел отчётливо: водка стекает по красной, в густом волосе, руке.
Артём вспомнил кричавшего мужика: это он тогда заходил в Йодпром за кроликом и кролика забрал.
Артём прошёл в парилку, взял таз, начал лить туда горячую воду. Потом передумал и, приподняв таз за один край, медленно, стараясь не шуметь, выплеснул. Включил кран с холодной. Она лилась и бурлила в тазу.
На пороге парилки лежала тряпка – вытирать ноги. Артём сходил за ней, подождал, пока наполнится таз, отодвинул его и, не заворачивая кран, несколько раз прополоскал и отжал тряпку под водой.
Толкнул дверь в предбанник, и, стараясь никого не задеть, прошёл с тазом и с тряпкой в тазу на улицу.
Поставив таз на землю, сел на порожке, так, чтобы через плечо падал свет. Скосился на лежащее возле бани тело. Наконец рассмотрел, что труп, когда ещё был живым человеком, получил пулю в голову, и тогда череп человека, превратившегося в труп, стал будто сдвинутым набок.
Или это Артёму только показалось в полутьме и в начавшемся ночном бреду.
Кровь пахла и, смешанная с грязью, отмывалась тяжело. Сапоги становились осклизлые и сильно пахли внутренностями человека – по крайней мере Артём сейчас, если б умел думать, – подумал бы, что человеческие внутренности пахнут именно так.
Он посмотрел в темноту и, словно размышляя о себе со стороны, а не изнутри собственной головы, осознал, что может вскочить и побежать.
Вряд ли за ним погонятся эти голые люди, отмывающиеся после убийства других людей.
– Григорий, – уговаривал Горшков вышедшего из бани Ткачука. – Надо свести его. Если Ногтев начнёт допрашивать… мало ли что… Там бумаги его вроде пожгли уже… Хорошо, бляха, Ногтев улетел в Кемь…
Артём поднялся и занёс в предбанник первую пару сапог. Он не мог никуда бежать. Он мог вымыть ещё пару окровавленных сапог.
Посреди предбанника снова стоял Ткачук – натуристый, с мокрыми кустистыми бровями, зубастый – как будто у него за каждый чужой выбитый зуб вырастало два собственных в его мощном, со здоровенными губами, рту.
Кто-то, всё так же со стороны, подсказал Артёму: речь идёт о Бурцеве, которого надо расстрелять, чтоб его не допросил улетевший в Кемь Ногтев.
Чекисты и командиры полка надзора заранее решили раскрыть и подавить заговор в отсутствие начальника лагеря. И потом обставить всё так, чтоб никто не прознал об имевшихся у Бурцева материалах на большую часть лагерного комсостава.
– Опять сапоги все перемажем, – сказал Ткачук таким тоном, словно ему предлагали сходить сорвать кочан капусты.
– Да ладно, одного-то, – цедил пьяную, но осмысленную речь Горшков. – Заодно чистых девок приведём из женбарака.
Артём сидел возле таза с новой парой сапог, иногда вглядываясь в темноту.
Из темноты вышел Блэк, понюхал воздух и, рыча, убежал.
Артём, не вставая и даже как будто освоившись – а что, сижу и мою сапоги, обычное занятие, – вернул чистую пару в предбанник и прихватил новые два, даже три сапога, уже не заботясь о парности – сами разберутся.
“Бурцева расстреляют одного, – подсказывал кто-то Артёму. – А тебя не расстреляют, потому что ты ни при чём. К тому же Горшков хоть и пьяный, а помнит, как ты копал Эйхманису клады. Поэтому сиди и отмывай сапоги”.
Из темноты вышли два человека, волоча за собой рогожу.
Вытирая о себя скользкие, как рыба, руки, Артём узнал Авдея Сивцева и Захара.
Он ожидал, что за ними придёт конвойный, но конвойного не было.
Вид у обоих был дурной, пахнущий смертью. Они походили на помойных собак. Глаза таращились, а лица будто свело от холода.
Они разглядывали Артёма: зачем он здесь, что он делает возле таза, полного крови?
И руки, и штаны, и рубахи, и лбы, и губы, и щёки – всё у них было в земле.
– Зарыли? – раздался голос Ткачука над головой Артёма.
“Их вытащили из карцера, чтоб зарывать трупы”, – в очередной раз шепнул кто-то Артёму в самое ухо. Артём чуть дрогнул щекой.
Авдей и Захар поочерёдно мотнули своими искривлёнными лицами. С волос посыпалась подсохшая земля.
– Ну пойдём тогда, – обратился Ткачук к своим, – заодно этого чинарика прикопают. – И он кивнул на мертвеца, лежавшего возле бани.
– За работу, шакал! – кинул он Артёму.
Авдей и Захар раскинули рогожу и, путаясь, потянули труп на неё.
Артём ступил ногой на рогожу, чтоб не задиралась.
– Ну, берём? – спросил Авдей негромко; голос его дрожал.
Переглянувшись, взяли и понесли.
Артёму досталась голова, она болталась из стороны в сторону. Руки Артёма скользили, и он скоро не удержал и выронил… что нёс.
Вытер ладони о себя, перехватился половчей и попробовал снова.
Авдей и Захар уже знали дорогу – они насколько возможно твёрдо шли к Святым воротам.
Вскоре их нагнали чекисты и командиры из полка надзора. Трое из них оделись – шинели хлопали о голенища вымытых сапог. Четвёртый надел только галифе и шёл, до пояса голый, обильно жирный.
Между ними, пошатываясь, брёл Бурцев со связанными за спиной руками. Куда его ранили, понять было нельзя – вся его гимнастёрка спереди была окровавлена, кровь стекла и ниже, поэтому брюки до колен – набрякли, почернели.
Один за другим к их неторопкому ходу присоединились ещё несколько человек из бани, поспешно одевающиеся на ходу, рядовые красноармейцы, неясно откуда взявшиеся, и ещё некто, похоже, из лагерной администрации – он был в гражданском пальто и франтоватой кепке и шёл рядом, заглядывая в лицо Бурцеву, словно ожидая, что тот обратит на него внимание – на этот случай незваный провожатый, видимо, заготовил речь или как минимум обидную фразу.
Один из красноармейцев нёс чадящий факел.
В каменном проходе, к полукруглым, напоминающим формой княжий шлем Святым воротам, факел разгорелся и затрещал.
За ворота Бурцева выводили уже толпой – как самого дорогого гостя в дорогу.
Становилось понятным, сколь сильно его успели здесь возненавидеть.
Бурцев же ничего не замечал, только иногда путал шаг, спотыкался и по-прежнему смотрел в землю, будто под ногами у него расползались путаные письмена, которые он пробовал, без особого тщания, дочитать.
Воздух начал светлеть.
Артём, предощущая рассвет, вдруг различил все предметы явственно и резко. К нему вернулись чувства и онемевший на несколько часов рассудок.
Третьих петухов ждать не приходилось, но эта ночь всё равно должна была закончиться.
“Меня точно не убьют”, – впервые за ночь сам, без подсказки, осознал Артём.
Чужая мёртвая голова его больше не пугала. Не пугало ничего. Всё уже случилось. А что ещё случится – того не избежать.
– Эй, ты, – окликнул Бурцева всё тот же чин в гражданской одежде.
Артём был уверен, что Бурцев идёт в полусознании, но нет, он приподнял голову и с силой плюнул в сторону окликавшего.
– Что за баба тут? – раздался вдруг голос Ткачука.
На дороге, встречая идущих, стояла мать Артёма Горяинова.
Она была недвижима и пряма, только концы платка шевелились на ветру.
Артём без удивления узнал её и, остановившись, не мигая, всмотрелся в похудевшее материнское лицо.
Она тоже узнала сына и вглядывалась в него: как поживают глаза на его лице, не тянет ли ноша в его руках, не собрался ли он сам умереть сейчас.
– Не собрался, – сказал Артём шёпотом. – Прости, мать, если удостоимся – увидимся потом.
Она не слышала его, но смотрела ему прямо в губы.
– Ты откуда, баба? – спросил Ткачук.
– Вольнонаёмная, наверно, – сказал Горшков, которому нравилась чувствовать себя трезвым и всё помнящим. – Прачка.
– Пошла вон, дура! – сказал Ткачук и выстрелил из своего маузера над головой женщины.
Она сначала присела, а потом некрасиво побежала прочь.
Горшков, путаясь в кобуре, тоже достал наган и пальнул вверх.
Артём смотрел вниз, на закурчавленную кровью голову, чтоб ничего больше не видеть.
Бурцев переждал всё происходящее, опустив подбородок и закрыв глаза. Время от времени он морщил лоб, словно отгоняя комаров – хотя никаких комаров не было.