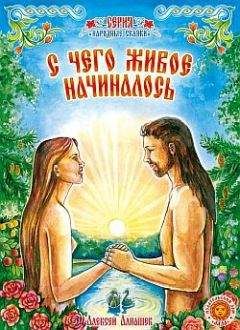Ада Самарка - Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
Я же все равно буду жить. Я решила.
Я буду смотреть на небо, которое будет светить звездами мне в окно (нам в окно, хотела написать, но ведь, по сути, только мне одной), я буду есть и спать, и никому, ну, возможно, только свекрови, не будет плохо оттого, что я не избиваю себя в кровь, не посыпаю голову пеплом, не голодаю и не демонстрирую окружающим – как мне плохо. Я поняла, что я, независимо от окружающих – все равно одна.
И он там, в реанимации, стоя на деревянной пристани над недвижимой перламутровой поверхностью воды, щурясь от яркого солнца в зените, готовясь ступить в очередной раз на трап большого белого парохода, он тоже там понял, что на самом деле он один, и это одиночество, лишенное каких-либо чувств, привязанностей, сожалений, мечтаний, совершенно не связанное с этим теплоходом, водой и солнцем – и есть он сам.
– Понимаешь, есть только я, – объяснял он потом из-под капельницы, – вот как… – он кивнул на тумбочку, на которой кто-то, рядом с термосом с целебными травами, парой книг про войну и айфоном положил и два стеклянных шарика с разноцветными крошками и пузырьками внутри. – Вот как этот шарик, все мое в нем. И не больше.
Я думала, что в моем шарике живут замершие разноцветным созвездием: я, свекровь, тот молодой человек с именем, как у моего мужа, с гордым очерком бровей и в шортах, похожих на австралийский флаг, когда-то маленький мальчик, наверное, светловолосый малыш, тоже мечтавший, глядя на небо, и народный педагог и воспитательница Ольга Федоровна, дай ей Бог здоровья, и мой собственный ребенок, и та женщина на обочине, которая совала мне под нос крышечку от термоса с лекарством и тормошила: «верь мне!», врачи «Скорой помощи» и врачи, оперировавшие моего мужа, и девочка-подросток с длинными русыми волосами в приемном отделении на каталке – я не упоминала о ней, но она лежала там, с неживым зеленовато-коричневым заострившимся личиком, накрытая простыней, из-под которой торчали розовые кеды, и, когда я выходила курить, по пандусу мне навстречу быстро, из последних сил, поднимались ее родители, «интеллигентная киевская семья» – я еще подумала тогда – всем там нашлось место, и никто никому не мешал, и все были равными величинами, в одном замкнутом пространстве. Моей и ничьей больше жизни. Потому что это такой мой шарик, в котором расположение крошечек и пузырьков было предраспределено при его заливке. Шарик моего мужа – другой, с похожим наполнением, но все же не идентичный моему собственному.
Если его шарик разобьется, то он сам все равно останется крупинкой в моем собственном шарике. Его шарик целиком никак не уместить в моем шарике все равно…
Я сидела поздним, уже пасхальным, апрелем, с подернутым зеленым пухом яблочным садом за окном, возле постели мужа, который, кажется, дремал, с плеером с моими сказками в ушах, и пыталась просочиться в сумеречный коридор своей квартиры, полугодом ранее – сентябрь, пожалуй, был самым беспощадным месяцем. Я села возле себя на корточки – смутно помню, что я шла тогда в туалет, была одна дома (ребенка на выходные забрала свекровь) и почему-то оказалась на полу. Я тогда подумала, что я не могу больше это все, что мне там, в том сентябре, без еды и без сна и без мужа просто уже нет сил жить, что я не хочу, а врачи тогда давали самые гнусные прогнозы. Я смотрела за окно, на пасхальное солнечное утро, на писанки и кулич на подоконнике (яйца, расписанные сыном, конечно, тоже напомнили мне о стеклянном шарике) и думала, что я тогда и я сейчас – равные величины. Что прошлого нет и нет будущего. И хорошо, конечно, что все сложилось так – мы вместе. Но даже если бы все сложилось иначе – у меня был бы мой симферопольский вокзал в прошлом и был бы какой-то еще апрельский полдень, полный детского солнечного умиротворения – в будущем. И я хотела сказать себе, лежащей на полу, как будто в пиковый и самый значительный, и ущербный момент свой жизни, и искренне желающей не лежать больше и не быть вообше – с помутненной головой от курева, сердечных капель и бессонницы – что самое важное у нас происходит именно сейчас, только сейчас мы можем что-то делать и как-то управлять своей жизнью. Потом, я хорошо помню, я встала, и мне было легче, потому что дурацкий ум наконец отключился и я заснула, а когда проснулась, думала чуть трезвее «Что. Я. Могу. Сделать?» У меня было очень много созидательной энергии. И я села придумывать сказки для мужа. Сотканные из тысячи мелочей, узнаваемые только им одним. Эта творческая сублимация не то чтобы просто отвлекала меня от грустных мыслей – она явилась вполне реальной частью моей жизни – просто, вернемся к шарику, раз его так много в этой истории – просто свет сквозь стекло светил иначе и в этих сказках, все как бы существовало наравне с нашей привычной жизнью.
– Я все помню, – говорил муж. – Я помню, как боялся, что меня отключат от машины и я не смогу никак подать знак, что я все чувствую и понимаю.
– Это было тогда, но сейчас же ты можешь все сказать, правда? Зачем сейчас жалеть себя? – без всякого сочувствия говорила я, и он не мог поспорить, а свекровь схватилась за винтильную пуговицу.
Его выписали из больницы в начале мая. И тогда же к нему стал приходить его знакомый по старым тренировкам, сделавшийся йога-тичером и решивший, что именно йога теперь поможет моему мужу.
В сентябре или октябре, когда его состояние было стабильно тяжелым, этот его друг, случайно встречный в метро (я старалась побольше передвигаться своим ходом, среди людей и без машины), как-то так спокойно прореагировал на катастрофические известия и сказал, что сейчас проводит семинар, посвященный уже не помню чему, по-моему, эмоциям, и звал меня прийти послушать, но я, закусив губу и опустив взгляд, категорично замотала головой. У меня была масса дел: Будки-Каменские, ночные дежурства и сеансы телепортации. И потом, случайно, я наткнулась в интернете на беседу каких-то девушек, где одна другой рассказывала, что самым лучшим в йога-классах, которые она посещала, был инструктор, не надевающий белья под тренировочный костюм. «Какая это все бесполезная суета», – подумала я тогда.
Друг приходил к нам домой сначала каждый день (я невольно косилась на его штаны – простые, цвета хаки просторные джинсы с цепочкой на кармане), а потом они общались через «скайп», устанавливая телемосты.
Они начали с того, что, молитвенно сложив перед собой ладони и прикрыв глаза, быстро пыхтели, как ежики. Это называлось «кабалапхати», и я часто дразнила мужа теперь, проходя мимо его коляски: специально ударяясь о нее боком, делала носом несколько задорных «фыф! Фыф! Фыф!».
Если не считать осложнений с тромбом и катетером – то операция на ножках прошла успешно, и с первой жарой мы вышли гулять – без палочки и без коляски. Муж был в спортивных штанах и в майке с логотипом «Евро-2012». Мы могли находиться вместе, держась за руки для устойчивости, часами, и не говорить ничего.
Солнечная пристань и огромное холодное озеро, с отражающимися в нем горами тоже были где-то неотступно вокруг нас. И шкодливая старуха в лохмотьях скакала, отталкиваясь древком косы где-то неподалеку. Мы просто устали бороться с ними и приняли их. Где-то был симферопольский вокзал, и на него продолжали приходить поезда, и чебуречное тесто раскатывалось в тонкую лепешку в тандырной под кипарисами на сонной обочине, и среди всего этого, в одном пространстве со снегами Джамолунгмы, Нордкаппским северным сиянием и охристыми пейзажами степного Тарханкута, под одним небом с пиликаньем реанимационных машин продолжали жить и мы. Даже Будки-Каменские продолжали существовать где-то в лесах и болотах на границе с Белоруссией. Мы ничего не боялись, муж каждое утро дышал «фыф! фыф! фыф!», и я помогала ему вставать с постели и придерживала за руки, когда он пытался стоять на одной ноге, высунув язык от усердия. Я говорила ему: «Дыши носом, чучело!»
В начале лета из Израиля приехала моя мама с мужем-поэтом, с которым познакомилась, кстати, в том самом Седневе, с заливными лугами и плотиной у старой электростанции. Отбив от жены и пребывая в возвышенно-истерической неопределенности много лет, пока они наконец не поженились и не уехали.
Наши отношения складывались не очень лучезарно, так получилось. У нас была сакральная мечта – как называли мы ее с мужем – поехать на пару недель к маме в Нетанию, причем обязательно всей компанией со свекровью вместе, но действие магнитных полей Земли и активность солнечных протуберанцев не способствовали свершению этой поездке и изредка, раз в пару лет, моя мама приезжала к нам. Когда она вышла, брезгливо оглядываясь по сторонам, из матовых стеклянных дверей таможенного пропускника в Борисполе, я бросилась к ней, обняла и сказала неожиданное: «Я так люблю тебя, мама».
Она растерялась и, не успев снять приготовленную гримасу снисхождения и усталости, ответила: