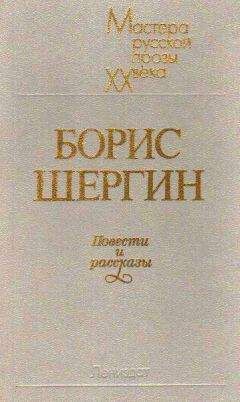Лев Брандт - Пират (сборник)
– Спасибо, – выговорил он наконец и потянулся за бумажником. Пальцы царапнули обнаженную кожу на боку.
Лысухин только сейчас заметил, что он раздет, и беспомощно оглянулся. Браслет яростно трепал в зубах остатки его одежды. Бумажник выпал из кармана и валялся на мокром навозе. Растоптанные копытом оранжевые, зеленые и синие кредитки безжалостно втаптывались в грязь.
– Прошу простить за беспокойство, эта лошадь мне не подходит. Я не ковбой, – вдруг неожиданно заговорил молчаливый покупатель и, вежливо шаркнув ногой, ушел из конюшни.
– Сегодня же застрелить гадину, – приказал Лысухин.
– Такая лошадь раз в десять лет рождается, ваше высокоблагородие. Таких лошадей не стреляют, – тихо проговорил Рыбкин.
– Она бешеная, я не могу держать бешеных лошадей, – вдруг побагровел от злости Лысухин. – Видишь?
Словно подтверждая слова хозяина, Браслет выплюнул изуродованный пиджак и загрохотал по перегородке копытами.
– Он отойдет, верьте слову, – отойдет, – упрямо твердил Рыбкин. – Разве лошадь виновата? За что ее стрелять?
– А кто же, по-твоему, виноват? – заинтересовался Лысухин.
– Вот если не только с коня, а и с человека любого начать со спины ремни резать, то кто хочешь от этого взбесится и на стенку полезет. По себе каждый может судить.
Лысухин хотел рассердиться, но только зябко передернул голыми плечами. Будь на нем пиджак, он бы показал, как надо с ним разговаривать. Но теперь он только сказал:
– Пошлите кого-нибудь ко мне за костюмом. И нет ли у вас чего-нибудь набросить?
– Вот, пожалуйста, эта на ваш рост, – предложил старший брезентовую куртку.
Лысухин повертел куртку в руках. Она была тяжела и, казалось, сделана из толстой, негнущейся жести.
– Может, еще что-нибудь найдется? – робко попросил он.
Старший торопливо стянул с себя засаленный, пропитанный потом пиджак из чертовой кожи. Лысухин взял его двумя пальцами, осмотрел и возвратил хозяину.
– Нет, я уж лучше эту, – сказал он, морщась и натягивая на голое тело жесткий брезент.
Скоро принесли новый костюм. Освободившись от куртки, Лысухин заулыбался и даже подобрел, к нему подошел Рыбкин и молча снял шапку.
– Ну что, старик?
– Не губите лошадь, ваше высокоблагородие. Я лучше найду на него покупателя.
– Ты думаешь, купят? – после небольшого раздумья спросил Лысухин.
– Лошадь редких кровей… Найдется кто-нибудь, – уверял Рыбкин.
Лысухин размышлял вслух:
– На чужой завод такую кровь за бесценок продать мне тоже неинтересно.
– Можно и не на завод. На завод даже его из-за характера побоятся взять, – успокоил Рыбкин. – А сотен пять и лихач даст.
– Пять сотен за такую лошадь! – возмутился Лысухин. – У ней породы на десять тысяч. А экстерьер какой!
– Может, и больше дадут, – пообещал Рыбкин.
– От него в конюшне зараза, – сдавался хозяин.
– Я вычищу денник.
– Ладно, – согласился Лысухин. – Дай завтра объявление. Сегодня я уезжаю. Вернусь недели через две, и чтоб к моему приезду его здесь не было.
Через два дня в конюшню гуртом повалили покупатели. Возможность купить известную лошадь с редкой родословной почти за бесценок привлекала многих. Незнакомые люди, осаждавшие денник, приводили Браслета в ярость. Он очумело бросался на решетку, грыз зубами железо и бил копытами по перегородке, откалывая от стен большие щепки. Покупатели, защищенные толстой решеткой, храбрились и дразнили жеребца. Многие, побывав сами, приводили знакомых показать бешеную лошадь-людоеда. Они просовывали через решетку палки, и Браслет, к удовольствию зрителей, дробил их зубами на части.
Хотя за Браслета просили необыкновенно низкую цену, охотников его приобрести не находилось. Рыбкину пришлось сбавить цену. Браслет зверел день ото дня.
Скоро Рыбкин убедился, что продать его не удастся. Нечищеный, со спутанной гривой и сбившимся хвостом, с налитыми кровью глазами, Браслет отпугивал самых смелых покупателей.
Ежедневно Рыбкин и Сенька с риском быть изувеченными понемногу чистили денник. И все же тяжелый запах аммиака наполнял конюшню.
Июльская жара усиливала зловоние.
Прошло две недели. Рыбкин, отчаявшись продать Браслета, захлопнул двери перед носом покупателей.
Когда около денника не было людей, Браслет успокаивался, забивался в дальний угол и часами стоял неподвижно. Глаза тогда теряли блеск, подергивались грустной дымкой и подолгу, не мигая, смотрели в одну точку. Потом неожиданно Браслет резко вздрагивал, приседая, как от удара, и вдруг, словно очнувшись от дремоты, с визгом начинал исступленно колотить копытами по перегородке. Слыша визг Браслета, волновались и другие лошади, даже самые спокойные и кроткие. Рыбкин понимал, что держать Браслета в конюшне больше нельзя.
Приезда Лысухина ожидали с нетерпением.
Браслет по-прежнему никого не подпускал к себе, зверел и бесновался при виде людей. Только Рыбкину и Сеньке разрешалось ходить около денника. Еда и питье опускались через верх. Неубранные испражнения гнили и наполняли конюшню тяжелым, удушливым запахом.
Однажды управляющий конюшней сказал, что хозяин приезжает завтра. Сенька ушел из конюшни, не почистив лошадь. Он забрался в сарай на сено, лег на спину и долго лежал с закрытыми глазами. Запах сена напомнил ему луг, табун, старую Злодейку и резвого гнедого жеребенка, несшегося по высокой, росистой траве. У жеребенка большие, ласковые глаза и теплые, бархатные губы. Сенька протяжно вздохнул и, повернувшись вниз лицом, глубже зарылся в сено. Только перед самым вечером он вылез из сарая. Глаза у него заметно покраснели.
В ближайшей мелочной лавочке Сенька вынул из узелка весь свой наличный капитал – восемьдесят пять копеек.
– Конфет на все, только без бумажек, – сказал Сенька, отворачиваясь.
Лавочка находилась рядом с конюшнями, и владелец ее хорошо знал Сеньку.
– Ничего, ничего, дело житейское. Парень ты в самом расцвете. И опять же весна, – ободрял он, протягивая кулек.
В дверях Сенька столкнулся с Рыбкиным. Они прошли мимо, не остановившись, даже не взглянув друг на друга.
«Кошка пробежала», – решил лавочник, знавший об их дружбе.
Рыбкин молча положил на прилавок два серебряных рубля.
– Конфет, – буркнул он. – Только чтоб без бумажек.
Лавочник на мгновение даже замер на месте, но быстро опомнился и еще быстрее сгреб с прилавка деньги, как видно боясь, что Рыбкин передумает. Отвесив конфеты, он забежал вперед и торжественно распахнул перед богатым покупателем дверь.
– Вот гляжу на вас, Никандр Миронович, какие люди когда-то были. Вот вы, годков на двадцать пять старше меня, а еще кремень-мужчина, – говорил он, заглядывая Рыбкину в глаза. – Я вот и сам жениться хочу, да только раздумываю.
– Дурак! – сказал на прощание Рыбкин.
Лавочник долго глядел вслед удалявшемуся Рыбкину.
И вдруг, осененный новой мыслью, даже подпрыгнул.
– Оба без обертки, неужели за одной? Старый и малый? Вот где кошка пробежала. Вот черти!
* * *Из лавочки Сенька пошел прощаться с Браслетом. Браслет одобрил подарок и, громко фыркая, набил конфетами рот. Два месяца он прожил на голодном пайке. Рыбкин держал его на сене и только раз в день давал немного овса. Сенька попытался как-то незаметно увеличить порции овса, но был накрыт на месте преступления.
– Задумал лошадь погубить? Раз без движения стоит, ему много есть вредно. Другой раз хлыстом отстегаю, – пригрозил Рыбкин.
Сладкого Браслет за это время не пробовал. Теперь, довольно покачивая головой, он быстро уничтожал Сенькины конфеты.
На глазах у Сеньки Браслет из жеребенка превратился во взрослого, статного жеребца. Сенька был свидетелем его рождения, роста, блестящей, но недолгой беговой карьеры. За это время Сенька сам превратился из мальчишки в восемнадцатилетнего парня. Ему казалось, что такого времени, когда рядом с ним не было Браслета, не существовало. Браслет не просто любимая лошадь – он товарищ, земляк, друг. И теперь Сенька прощался с Браслетом навсегда…
В конюшню неслышно вошел Рыбкин. Увидев Сеньку, он повернулся и, тихо ступая на носки, незаметно исчез за дверью.
Во дворе Сенька появился только под вечер. И тотчас же его место у денника занял Рыбкин.
Браслет не спеша принялся за новую порцию конфет.
– Ешь, ешь, милый, ешь в последний раз, – тихо сказал Рыбкин. Голос у него дрожал и скрипел сильнее обычного.
«Без охоты ест. Умная скотина, предчувствует», – решил он.
Браслет нехотя доедал конфеты.
– Ему бы в степь, на волю, в косяки. Какие жеребята были бы! – мечтательно шептал старик.
У Рыбкина заболели ноги, а Браслет все еще не мог доесть конфеты. Старик отошел от денника и сел на табуретку. Развернув беговую программу, он уставился на первую страницу. Беззвучно шевелились губы, и осторожно, крадучись передвигались по обычному маршруту усы. Так прошло полчаса. Рыбкин по-прежнему шевелил губами, держа перед собой программу, открытую все на той же странице. В денниках тихо всхрапывали лошади. Наконец голова Рыбкина опустилась на руки, и к равномерному посапыванию лошадей присоединился новый, свистящий звук.