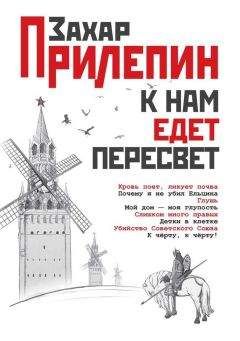Алиса Ганиева - 14. Женская проза «нулевых»
– Ну, Аркаша…
Я бы никогда не начала этот разговор, если бы не театр. «Лебединое озеро». В субботу неожиданно у нас мероприятие – балет. Аркашин знакомый, старый друг его отца, дирижирует гастрольным коллективом. Труппа тоже из приезжих, аншлаг, Нюся с Димычем уже смотрели со школой, сказали, что «главная лебедь клево пляшет». В программке «главная лебедь» была обозначена как солистка Анастасия Кукушкина. Я ради такого случая решила «выгулять» синее бархатное платье, которое лет пять не вынимала из шифоньера. По привычке приехав заранее, мы толкались в фойе. Ар-каша поминутно здоровался, вертел головой, задевал всех руками и извинялся. Бегал туда-сюда, как будто спешил, я за ним еле поспевала, уцепившись за локоть. Ну уж нет, не отпущу! Здесь не за кого переживать, некому давать инструкции, ни один из его учеников не играет в этом оркестре. А я – вот она, бегу опять чуть сзади, пытаясь поймать Аркашин взгляд поверх голов. Платье как-то сидело ужасно неудобно, неловко, волосы под шапкой наэлектризовались и липли к щекам, поэтому я потащила Аркашу к зеркалу. Мы завернули за угол и встали рядом, наткнувшись на собственные отражения, только вдвоем на фоне бордовой портьеры запасного выхода. Платье болталось с боков, а на плечах морщило, и рукава определенно стали коротки – руки торчат, может быть, оно село от чистки? Аркашины руки, конечно, торчали тоже – из манжет мятой рубашки, из рукавов пиджака. Дурацкий бежевый галстук, ни к чему не подходящий и завязанный косо, неумело. Мы стояли одни, длинные, худые, длиннорукие и несуразные, похожие друг на друга, как брат и сестра. Видимо, Аркаша заметил это тоже, потому что перестал бежать и рваться, а стоял молча, разглядывая нас. Сначала как будто себя – он даже пригладил немного волосы и одернул пиджак, а потом положил мне руку на плечо и так стоял тихо, не меняя положения и почти не мигая. А я всё хотела спросить: правда, мы подходим друг другу? Но тут оказалось, что мы не одни в закутке коридора. За нашими спинами собралась целая семья, они тоже пришли причесаться и поправить одежду, прежде чем идти в зал. Две девочки-погодки, лет семи-восьми. Милые, похожие, с тугими косичками и бантами, в красных клетчатых платьях, белых колготках и туфельках с ремешками. Папа в костюме и галстуке, мама – в ажурной синтетической шали и просторной юбке, горбящейся на беременном животе. Аркаша засуетился, освобождая место у зеркала, потянул меня обратно к залу, споткнувшись о кривоногий диванчик. Он не заметил, а я заметила. Я глаз не могла оторвать, и не от дружных клетчатых девочек, а от лиц их родителей. Я хорошо знала эти лица. Наши. Толстогубые, с круглыми щеками и глазами-щелочками под низкими лбами. Похожие, как близнецы. Женщина чуть-чуть посимпатичнее, прическа с челочкой, а мужчина – вылитый санитар из второго корпуса по прозвищу Фарид-Пегасек, который каждое утро стоит в дверях и зевает, широко открывая мокрый редкозубый рот. Семья. И мы семья.
– А девочки у них нормальные, – сказала я Аркаше, когда мы добрались до нашего второго ряда. Аркаша посмотрел на меня непонимающе, его пальцы уже пробегали на спинке переднего сиденья увертюру, ноги отбивали такт. Он пожал плечами и отвернулся, а через минуту уже махал кому-то в оркестровой яме. Куда они прошли? Я вертела головой в разные стороны и наконец увидела странное семейство слева в партере. Они невозмутимо протискивались в середину мимо ряда, девочки чинно держались за руки, их пропустили вперед. Родители вид имели гордый, даже надменный, женщина раздвигала людей животом, двигаясь медленно, как в воде или во сне. Как они попали сюда? Где взяли билеты, купили? Привели детей.
– Аркаша, ну посмотри же! Вон, видишь, они идут с девочками, Аркаша!
– А? Нина, кто идет? – Аркаша машинально растянул в улыбке рот, ожидая увидеть знакомого.
– Да вон, видишь, двое, ну…
На меня зашикала старушка справа, в голубеньких кудряшках и с камеей у морщинистой шеи. Уже гасили свет, оркестр заканчивал свою какофонию, дрожал занавес, а я всё пыталась разглядеть в темноте. Балет смотреть я почти не смогла. Солистка Кукушкина выбегала на сцену то Одеттой, то Одиллией, меняла белую пачку на черную, вертелась и порхала под громкие аплодисменты. Красавец Зигфрид с белыми ногами, лауреат множества конкурсов, легко подхватывал невесту на мощное плечо, и она билась руками-крыльями, как настоящая птица. Маленькие лебеди, стуча пуантами, бегали по сцене под знакомую с детства музыку, как стадо легконогих и трепетных лошадок. Ничего этого я не видела и не слышала. Я весь спектакль смотрела в сторону, как они сидят неподвижно в гуще зала, эти двое. Что они там видели? О чём думали, глядя вместе с нами на ту же сцену? Эту ли музыку, что выстукивал Аркаша на передней спинке, они слышали сейчас? Как они завтра будут рассказывать соседям или знакомым (каким знакомым?) о походе в театр, о балете? Как наша дурочка Поля за утренней уборкой? В антракте они всё так же степенно отправились в буфет. Наверное, им сказали, что в театре есть буфет и все ходят туда есть бутерброды с ветчиной, эклеры и пить сок. Я никуда не пошла, Ар-каша полез прямо в оркестр жать руку дирижеру, две дамы в блестящих блузках из первого ряда перешептывались и смеялись над ним. Потом все вернулись в зал, второе действие прошло мимо меня тоже. Я всё никак не могла избавиться от навязчивых мыслей, глядя на темные силуэты слева от меня. Где они познакомились, в поликлинике? Во вспомогательной школе, во дворе? Поженились, родили девочек. Где они работают, ходят ли дети в школу, кто у них теперь родится, мальчик? Будет ли он обычным ребенком или таким же низколобым и толстогубым, как его родители? Как они живут, воспитывают детей, варят суп, убираются в квартире. Как вернутся сейчас, после спектакля к себе домой, будут ужинать. Девочки повесят свои платья в клетку на плечики в шкаф. Что им этот балет? Зачем они здесь? А я? Зачем вообще я, с Аркашей или без? С моими короткими рукавами, бесполезными кактусами и свежим ремонтом на кухне. Для кого? Для кого нужны мои анализы – гемоглобин и глюкоза? Для Аркашиной больной матери, которая сидит сейчас с платной сиделкой, медленно, как в мутную воду, входя в очередное обострение? Зачем я Аркаше, сидящему рядом, но слышащему, наверное, другую музыку? Сможет ли он, учитель музыки, научить меня ей… Кажется, я плакала. Я плакала, пока не захлопали, а бабуля с камеей стала меня тормошить и совать в руки невесть откуда взявшийся букет белых лилий.
– Пойди, деточка, подари, а то мне не пробраться.
И Аркаша неожиданно стал помогать, проталкивать меня к проходу, оттеснять плечом соседей и задние ряды. Мы пролезли по лесенке, по-моему, я всё еще продолжала всхлипывать, и подарили букет усталой Кукушкиной и Зигфриду с каплями пота на лбу. Они тоже были похожи – обведенные черным глаза, откинутые волосы, сегодня все были похожи. Балетные улыбались растянутыми большими ртами и тяжело дышали. На мгновение я подумала, что они, наверное, сейчас пойдут в один гостиничный номер, Одиллия поставит чайник и развернет фольгу на бутербродах. А Зигфрид включит телевизор и положит усталые ноги на табурет. И разговаривать они не будут, зная друг о друге всё и понимая, что сейчас думает каждый.
Мы подарили букет и ушли.
– Жаль, что мы не сможем пойти на банкет, – сказал Аркаша на улице.
– Куда?
– Ты какая-то грустная, Нина, плакала, тебе не понравилось? По-моему…
– На какой банкет, Аркаша?
– Роман Львович пригласил, дирижер. Только у меня мама… Ох, Нина, десять уже!
– А почему нас?
– Нина, я побежал, извини, ради бога, вон мой троллейбус, мама…
– Он что, нас вместе пригласил? – кричала я на бегу.
– Ну мы же вместе пришли…
Двери троллейбуса закрылись, Аркаша уехал, а я поплелась на свою остановку, чтобы вернуться в пустую квартиру, где некому поставить чайник. В этот момент я его почти ненавидела.
– Нина…
– Да?
Я уронила деревянную крышку хлебницы, отложила нож, но повернуться пока не смогла. Боль в животе заметно усилилась, мне нужно было время, чтобы перетерпеть. Подумать минутку, сделать паузу перед тем, как он скажет мне. Что он не молод, что он давно один. Что я замечательная женщина, но. Что мы еще так мало знаем друг друга, что у него работа, которая отнимает всё. Что он не любит меня, хотя. Хотя.
– Нина…
Тут он вскочил, и уронил на пол тарелку с картошкой, и бросился подбирать.
– Подожди, сядь.
Я села прямо на пол, потому что не могла идти, а зубы продолжали стучать, а живот жгло огнем уже почти нестерпимо. Перетерпеть, переждать… Аркаша тоже сел рядом, столкнув стул ногой. Мы не засмеялись, как обычно, он не стал извиняться, не стал поднимать.
– Понимаешь, Нина…
Он не смотрит на меня, а я гипнотизирую – повернись, повернись же! Левая щека свежепорезана бритвой, а на подбородке, наоборот, остался кустик несбритых волосков – один седой, один русый. Мокрые пряди надо лбом подсохли и распушились, тоже – волосок седой, волосок русый. Немолодой, нелепый человек в полосатом банном халате, на полу, рукава доходят ровно до локтей, бледные пальцы терзают поясок. Рука у Аркаши широкая, но плоская, короткая ладонь с длинными пальцами, на полторы октавы. Я рядом тоже на полу, в синей домашней пижаме с кенгуренком на животе. Что там еще может болеть? Что мне сейчас ответит человек, сидящий рядом?