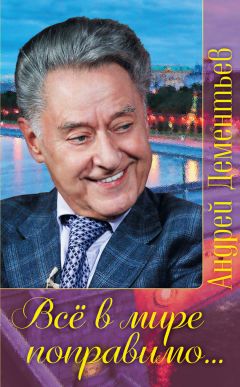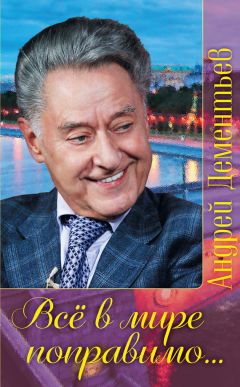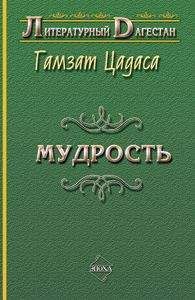Фазу Алиева - Цена добра
Я слышала голоса ушедших – брата, отца, прабабушки, наших соседок, тех, кого мы провожали на войну. Когда проходила мимо кладбища, до меня как будто доносились их голоса: Омардады, Халун, Издаг, Патимат, – и мне становилось невыносимо больно.
Не люблю и лето; не знаю почему, может, из-за жары. Мое раздолье, моя радость – осень. Я становлюсь совсем другой: все, что застыло, окаменело во мне весной и летом, пробуждается, возрождается к жизни; отовсюду звучит призыв: «Пиши! Пиши!» И я начинаю писать, только успевай донести мысли от головы до белого листа. Что-то пьянящее, чарующее дарит мне каждый опадающий лист дерева. Цвета багровые, желтые, где-то еще зеленые складываются в необыкновенные картины. А небо осенью такое высокое, гораздо выше, чем весной и летом, и чистое до хрустальной голубизны. Вот лист упал на мою голову, он такой прозрачно-желтый, хрупкий. Я смотрю на дерево, не плачет ли оно по своим листочкам, мысли складываются в стихи:
О дерево, поведай мне: и ты
Обречено страдать во время родов?
Так почему же не трясет природу
Твой крик, когда рожаешь ты цветы?
О дерево, а плачешь ли и ты,
Как скорбно плачут матери о детях?
Что ж я не слышу плач и стоны эти,
Когда на землю падают плоды?
Я бегу домой, пока мысли тянут меня. Ах, осень! Ты мое вдохновение, ты огонь моего трудолюбия.
Вот и первый снег, моя слабость и мой полет. Снег идет большими хлопьями, густо, и одна снежинка, словно крылом, касается другой. Я стою очарованная, будто между небом и землей. И каждая снежинка несет мне с высоты эти мудрые мысли. Я наполняюсь ими, как пчелиный улей пчелами, которые потом летят, чтобы собрать нектар. Я бегу, сама не знаю куда. Все белым-бело, и мысли мои, как снег, белые, но горячие, обжигающие.
Мои бабушка и мама любили все времена года, а от кого у меня такая любовь к осени и зиме и равнодушие к весне и лету? Помню горячий хлеб с сыром, что аульчане раздавали, когда завершалась уборка на полях. Этот волшебный вкус я чувствую и сегодня. А в первую зимнюю ночь зажигали костры: молодежь – на скалах, а пожилые на крышах домов. Мы, дети, радовались, перепрыгивали через костры, а бабушки читали молитвы.
Пусть никогда никто под этим небом
Не будет обделен насущным хлебом,
Но будет, как всегда, как в пору голода,
Хлеб слаще меда и ценнее золота.
Генеральная репетиция
Мне искренность моя грозит бедой
И в то же время от беды уводит.
Она – цветок, в нем кто-то яд находит,
А кто-то сок, медвяный и густой.
Двойное у цветка предназначенье,
И не похожа на пчелу змея.
Так будь же век со мной, мое мученье,
Мое спасенье – искренность моя.
«Смерти можно бояться или не бояться – придет она неизбежно».
И. ГетеКак-то все мои дети одновременно пришли ко мне.
– Как хорошо, что никто никуда не уехал и все собрались вместе. Я хотела серьезно с вами поговорить.
– Ты уже сто раз поговорила с нами серьезно, думай о своем здоровье; ты еще тридцать лет будешь жить и командовать нами, иншаалла! – улыбнулся Расул.
– Вчера я ходила к Халун и очень расстроилась. У нее, наверное, сто подушек, пушистых, словно внутри тесто на дрожжах; все одинакового размера, но из разных тканей: бархата, парчи, сатина, ситца. Она их шьет, чтобы пришедшие после ее смерти на соболезнование могли на них сидеть, дом блестит, как зеркало невесты; чтобы садака раздавать, она купила одинаковые кулечки; тарелки, вилки, ложки завернуты в белоснежные полотенчики. А в чемодане все – от мыла до савана, чтобы нарядной уходить в иной мир. Вы ни о чем не думаете, а я сижу, пишу, читаю. Опозоритесь вы, когда меня будете хоронить. Кто вам подскажет, что и как необходимо делать?
– Ты же нам уже сто раз сказала! Зачем подушки? У соседей возьмем стулья, если нужны будут, и столы. Не беспокойся, мамулечка, ты нам нужна живая, ты еще долго будешь жить! Давайте больше об этом не будем говорить! – успокаивал меня, а заодно и себя Махач.
– Знаете, – очень серьезно, даже как-то торжественно, сказал молчавший до сих пор Джамбулат. – Я думаю, чтобы мама была спокойна, надо провести генеральную репетицию.
И все дружно расхохотались и перешли на другую тему.
Мамин наперсток
У мамы на виду не устаю
Я женщину счастливую играть,
Какой всегда, наверно, дочь свою
Мечтает видеть любящая мать.
Но вздох ее горяч и поделом,
Как пар над закипающим котлом.
И полон скорби взгляд пытливых глаз,
Как черным углем, наш зеленый таз.
«Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем».
Можно сказать, без сомненья, что у моей мамы была одна вещь, для нее бесценная и ревностно ею хранимая. Где она ее хранила днем, никто не знал, но долгими вечерами она надевала ее на средний палец и начинала штопать наши лохмотья. А во время войны мама пришивала пуговицы и делала петельки к ватным безрукавкам и фуфайкам, которые шили бабушки и ее подруги. Потом выяснилось, что таинственная вещь имеет название – наперсток.
Каждый раз, когда мама надевала этот наперсток, она так горячо вздыхала, как будто выпускала из себя кипящий пар, и говорила: «Когда я вышла замуж за Али, он привез меня в Махачкалу, тогда военные жили в казарме. Как-то повел Али меня в гости в одну семью. Хозяйку звали Патимат. Все называли ее Цурмилова Патимат. Женщина была как царица. Каждое ее движение, осанка, голос входили в сердце, как красивая песня. Тогда я не могла отвести от нее глаз, а потом она стала мне близкой и родной. Я, приехавшая из аула, не знала, как себя вести; больше молчала, боялась, что скажу какую-нибудь глупость. Когда мы собрались уходить домой, она подарила мне этот наперсток и сказала, чтобы я берегла его на счастье».
Наперсток серебряный; не знаю, какой терпеливый и искусный мастер его сделал. Все, кто видел этот шедевр ювелирного искусства, долго рассматривали его и восхищались. Наперсток был покрыт мелкими шариками, будто бисером, а чуть ниже середины, словно пояс из цветов на черненой эмали, его завершала тонкая, красива канва. У нас не было особых ценностей: революция отняла у моих предков все. Мы жили в чужом доме, и нам, детям, казалось, что если есть в доме дорогая вещь, то это мамин наперсток.
Когда исполнилось мне шестьдесят лет, мама позвала меня и достала заветный наперсток. Я удивилась: как же она его сохранила? Мама торжественно вытащила из-под подушки, на которой спала, стертый кожаный маленький кошелек – оттуда уже посеревший комок ваты.
– Я хочу подарить его тебе, – сказала она, нежно поглаживая наперсток своими узловатыми пальцами.
– Не надо, мама, ты ведь так его любишь, – запротестовала я.
– Глаза уже давно не видят, любоваться им я уже не могу, а шить – тем более, – улыбнулась она.
Мама снова рассказала мне историю наперстка.
– Подари его Нуцалай или Шахсанат (это мои сестры), – никак не успокаивалась я.
– Нет, Фазу! Они такие вещи не ценят. Это ты умеешь беречь и хранить. Пусть теперь он станет твоим талисманом счастья и радости. Я хочу, чтобы он был у тебя.
Я взяла наперсток и заплакала.
Когда умирала моя прабабушка, мне было тогда два года, говорят, что она свой талисман, на котором арабской вязью была расписана молитва, передала моей матери и сказала: «Это – для Фазу, ей в жизни будет очень трудно; а до того, как она поймет смысл талисмана, носи сама». Мне его дали, когда я пошла в седьмой класс и с тех пор ношу его с маминым наперстком и никогда с ним не расстаюсь…
Не раз в моей жизни случалось так, что я стою на краю пропасти, одной ногой как будто уже проваливаюсь в нее. Но в этот же момент, когда уже казалось «все!», меня словно кто-то невидимыми руками перемещает на лужайку. И мне кажется, что Аллах спасает меня, потому что я никогда не сомневалась в его могуществе и справедливости.
Я глажу свой талисман и вспоминаю прабабушку, которую знала только по рассказам и которая с детства вошла в мое сознание как очень мудрая, проницательная женщина. Вспоминаю маму, Цурмилову Патимат и, подняв руки, благодарю Всевышнего: «Аллах, алхамдулилла, ты опять спас меня от черной зависти и ненависти».
Сейчас я думаю: кому завещать свои талисманы, кто из моих внучек сможет оценить важность и значимость моего дара; кто будет искренне любить и верить в их силу?
Уже тропа не звенит
Рухну в зеленую свежую бездну —
На склон луговой упаду,
Увижу омытые синью небесной
Ромашки, лютики и лебеду.
Зажмурюсь – и, словно в теплую землю,
Их корни впущу прямо в грудь свою.
Их муки приемля, их счастию внемля,
С весенними соками душу солью.
«Поэты – непризнанные законодатели мира».