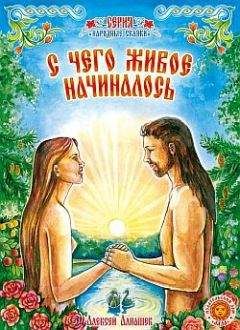Ада Самарка - Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
«Он успел взять у меня тысячу долларов, – спокойно, даже чуть мечтательно сказала Светлана, – этого вполне достаточно, чтобы скрыться на время…»
* * *Иногда я шла к своему участковому терапевту – удивительной еврейской старушке, коренной киевлянке, из тех, что называют осунувшихся женщин вроде меня «деточка», много вздыхала и избегала говорить о дырках в голове моего мужа. Дождавшись своей очереди, я заходила к ней в кабинет, садилась у стола, протягивала руку для измерения давления и плакала. Мне нужен был больничный, чтобы полежать в одиночестве и почитать газету «Факты», и Ирина Моисеевна отлично меня понимала, выписывала на неделю с диагнозом «гипертонический криз, ВСД кардиального типа», и я все эти дни валялась в тупой прострации, читая новости из раздела «криминал и происшествия». Муж находился за стенкой, со своими обросшими кальциевыми шишками тазобедренными суставами, неспособный уже даже просто встать, в детской комнате, в памперсе, который научился менять самостоятельно, с телевизором и ноутбуком с «Вконтакте» и «Одноклассниками». Не знаю, о чем он там переписывался и с кем, но у него появилась масса приятелей там, и даже какие-то девушки звонили ему вечером на мобильный. Ощущая не иначе как предсмертную вседозволенность, он, безумно ухмыляясь разбитым ртом, булькая и задыхаясь, врал им, что у него никого нет. Ребенка я отвозила в сад, как обычно. Свекровь, подустав, уезжала на время таких каникул к себе домой. Целый день мы оставались одни, вдвоем – как и не мечталось раньше. В стеклянной бутылке. Если раньше больница была для меня наполнением стеклянного шарика, то теперь мир превратился в бутыль, замазанную изнутри белой масляной краской. И я не хотела заходить к нему, у меня не было сил быть рядом с ним. Квартира в эти мартовские дни была налита новым жарким и белым солнцем, ровными недвижимыми тенями, странной тишиной, какой не случалось по выходным.
* * *Я ничего не написала до сих пор про Седнев. И про ту часть нашей жизни, которая легла дымчатыми воспоминаниями, конвертом черно-белых фотокарточек между его первым вдохом, в ленивом замешательстве, когда он, подхваченный под мышки, был вынут из материнского лона и повернут к синеватой операционной лампе, и тем зрелым августовским солнцем у моря с арбузами. Мы же познакомились на самом деле в Седневе, когда нам было по семь лет. Его покойный отец в советское время был достаточно выдающейся фигурой в киевском художественном мире, его работы хранятся во многих коллекциях, и имя зафиксировано в передовых тематических каталогах, рядом с прочими, всемирно известными. Я совершенно не помню его отца – образ складывается со слов родственников и по задумчивым фотографическим портретам, висящим у них в гостиной на двух стенах, один напротив другого (а между ними, на древнем, помнящем хозяина зеленоватом диване, застилаемом на день вязаным пледом, спит его вдова). В Седневе находится Дом творчества, и в старой художественной тусовке этот дом знают, конечно, все. И у всех, кто в тусовке, имеются этюды, изображающие один и тот же, преимущественно осенний, седневский пейзаж, с кривым обрывистым берегом и уходящей за поля с далеким лесом речкой Снов.
Там мы и познакомились с будущим мужем в первый раз, и он это знакомство досадным образом не помнит. Да и я почти не помню – просто они отдыхали с родителями в том же месяце, что и я с мамой, и мы наверняка общались на площадке. Они жили в «домиках», а мы на первом этаже, в корпусе. Я помню многих других детей, помню, как мы вешали на деревья фантики от конфет с какой-то гадостью внутри, таким образом обманывая более младших, которые, обнаружив подмену, потом плакали и жаловались мамам. Помню передачи про мир животных и, в частности, про акул, которые мы смотрели в холле возле столовой, и именно там, во время просмотра, меня вдруг сковал и заморозил страх смерти, то первое, приходящее в детстве трезвое осознание, безжалостное и бесчувственное (ибо все чувства в том контексте бессмысленны), о существовании конца собственной жизни. Мысли о Седневе почему-то выкатывались как воздушные пузыри именно той больничной весной, и именно с тем удушливо-оглушающе-подводным тягостным привкусом и булькали в моем отупленном сознании, словно привлекая внимание к решению какой-то совсем другой жизненной задачи.
Моя домашняя бутылка лежала теперь на дне пруда с водомерками, в меланхолично застывших солнечных бликах, и все было в коричнево-серых тонах. Вместо моря нас из больницы выписали в неподвижный, заросший пруд с водомерками и, озвучиваю голосом свекрови, с ее непередаваемыми интонациями «и с леп-то-спи-ро-зом!».
Пока муж болел в соседней комнате, я валялась на диване, в халате, расхристанная, с пустыми чашкой и тарелкой в выемке между подушками, которые было лень убрать, и они дзенькали при каждом моем движении, и вспоминала тот Седнев. Место, где мы увиделись первый раз, но ничего не помним, если бы не почти документально подтвержденные свидетельства родственников. Особенная седневская русская, дремлющая, речная сырость созвучна с печальной сыростью у меня в душе. Эта русская черниговская православная глушь, как с билибинских картинок, полная истинно православного траура (ибо все православие – бесконечный траур), поет теперь тризну и чернеет отсыревшим деревянным крестом, на который мне так любо смотреть теперь в моих мыслях.
Речка Снов там совсем узкая, переплыть ее ничего не стоит – но глубокая и потому опасная. Помню, как возле одного из деревянных, почерневших мосточков, на которых стирали и с которых ловили рыбу, в тени с водомерками, под нависшими кустами и ивовыми ветками мы нашли (возможно, даже с моим будущим мужем, хотя он этого и не помнит) утонувшую собаку – раздувшуюся, серую, страшную.
А чуть ниже, в той же убийственной серой, болотом и мошкарой пахнущей сырости, в крапиве и лопухах, находится плотина и старинное здание неработающей электростанции. Сразу за плотиной, в ивовых зарослях притаился песчаный пляжик, на который мы ходили со взрослыми. А напротив нашей горы с Домом творчества расстелились заливные луга – выщипанные коровами и лошадями, с жестким конским щавелем и клеверными полянами, а еще дальше темнеет лес. Тот лес манил меня, ноздри щекотал запах летней хвои, мне казалось, что то, что я ищу – находится именно там.
Один из моих детских снов – который помнишь потом всю жизнь, который, как особый узелок на шве, вспоминаешь совершенно вне контекста своего возраста – мне снился Седневский холм, и раскинувшийся по ту сторону реки левый берег с лугами и лесом в предрассветной дымке, серой, чуть зеленоватой, и там, перескакивая через болотистые лужи, возможно, отталкиваясь от их дна древком косы, скакала сама смерть: невысокая сгорбленная, но невероятно юркая старуха в бесцветном балахоне. Она всегда была там, в этом сне, в моем бочонке с воспоминаниями, даже на море, даже в свадебном путешествии в Турции, где-то на дне деловито шастала по своему сырому лугу пасмурным утром.
Солнечное утро мне всегда казалось логичным продолжением ночи и символом природного иссякания бед – но та больничная пора подкинула новые, не рассматриваемые ранее варианты: а как быть с пасмурным утром, ноябрьским, туманным, когда свет не выключаешь до обеда? Или как быть, того хуже – с полярной ночью? Я думала, не без истерического женского пафоса, что те наши десять лет без единой ссоры были просто полярным днем, а сейчас пришло время ночи.
Когда нас выписали из больницы первый раз, я садилась со свекровью у него в изголовье, и мы беседовали о мальчике. Кем он хотел стать, о чем мечтал. Она уже не плакала, а говорила горячо и с радостью. «Пожарником… хотел быть пожарником, ты помнишь, сына? А еще космонавтом, да? Космонавтом…» А я смотрела на его вывернутые в стороны, как у лягушонка, ноги и думала об этом ребусе: раз у него есть ноги, то он может ходить. Нельзя ходить лишь в том случае, когда ног нет.
Когда мы снова отвезли его в больницу и оставили там («Оставили!..Оставили!» – рыдала свекровь, комкая целлофановый кулек на выходе, на широком больничном променаде), то я ничего, кроме облегчения, не чувствовала. Он снова был в реанимации, а его ум – на поле боя. «Нет, так не пойдет!» – как будто говорил он той старухе, юродствующей, кривляющейся, прыгающей с косой, как с шестом, через лужи. «Отдай мне мои ножки!»
Тем вечером я снова дежурила возле него в реанимации. Было ясно, что что-то не то с ним опять – ножки вроде как починили, но сознание не возвращалось уже восемь часов.
Сказка девятая. Репка
Сережку Стельмаха знал весь Киев. Еще когда бегал трамвай по крутой тенистой Никольско-Ботанической, его все знали, когда функционировало три овощных магазина в районе Крещатика, его все знали, знали на Куреневке у «Пингвина» и в сквере неподалеку, в церкви возле дурдома и в самом дурдоме, в парке Шевченко тоже все знали, в художественных мастерских на Андреевском спуске и на улице Перспективной, в подземном переходе под площадью Октябрьской революции знали и махали, приглашая присесть в прокуренном сумраке прямо на асфальт, словом, знали везде – и все звали его Деда. На момент описываемых событий по возрасту он вполне мог быть уже дедом (да и был им, скорее всего, и не один раз: вести о рожденных при смутных обстоятельствах, ни разу не виданных, а ныне выросших и ставших красавицами дочках периодически долетали из разных уголков мира; последняя, рыжеволосая бестия, точная его копия в женском обличье, сообщала, что работает стюардессой). Называли его Дедой еще со школьной скамьи, старожилы и ветераны куреневской десятой школы помнят, конечно же, Деду до сих пор. Женат он никогда не был, в женских кругах слыл чудаковатым романтиком, ненадежным, ветреным, с неустойчивым характером и склонностью к депрессиям и маниям. В период маний Деда завязывал знакомства с антикварами, певцами и политиками, ходил в рестораны, запирался в туалетах на открытиях выставок с чужими женами, был бит и бил сам, устраивал пикники на крышах с несовершеннолетними дочерями дипломатов и министров, лазил через окна и ограды, ломал руки и ноги. Близкие друзья имеют в арсенале ряд историй про вызволения Деды из милиции и про мучительные недели рэкетирской осады в чужих квартирах, когда еду ему спускали с крыши на веревке. Также были истории про советские вытрезвители и подосланных друзей-кагэбэшников, ночные объяснения в министерских подвалах и странные микропленки, которые он передавал с неизвестными целями неизвестным личностям. Сколько именно ему лет, тоже никто не знал, но по упоминаниям подкисшей бетонно-монуменальной романтики советских 1960-х можно было сделать выводы, что Деда уже отнюдь не молод, хотя выглядел он молодцевато-подтянуто благодаря балконному загару с апреля по сентябрь – аж лоснился от мужественной гладкой смуглости; затылок был выбрит, в ухе – серьга; спина вследствие периодических занятий восточными практиками и хорошей наследственной конституции ровная и широкая; аккуратная пижонистая светлая бородка с проседью казалась просто выцветшей на солнце; глаза прятались за стеклами темных очков; небольшое брюшко – утянутое поясом авторской работы с пряжкой в виде бычьей головы – над его великолепными спортивными длинными ногами в ковбойских сапогах с подкованными каблуками делалось почти незаметным.