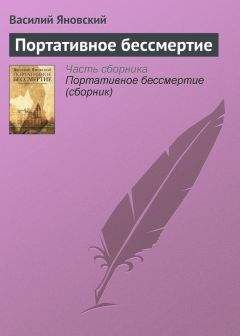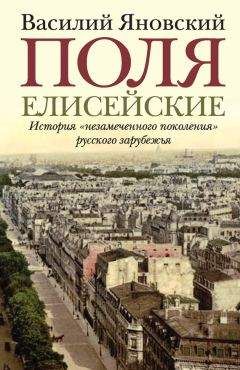Василий Яновский - Портативное бессмертие (сборник)
А может быть, то прорывался иной голос: биологических глубин – слепо знающий, – оттуда, где корни переплетаются и вяжутся узлы… «Вот здесь смерть», – кротко, убежденно заключала душа, и я застывал, полумертвый от грусти: братски приобщаясь в ней со всем животным миром. Эту предмогильную печаль испытывают и звери. Когда-то, вслед (или во время) мы все умирали. Есть твари и ныне, кончающиеся сразу за совокуплением (некоторые виды мотыльков, пауков, крабов). Какая удача: для них уже нет сомнения – в чем гибель. Я перегнал их, растянул немного резинку. Но чувство не обманывает, оно то же. Краб, я умру как краб. Лежу недвижным пластом (почти минерал), и только в памяти медленно скользят (без последствий) по привычным гнездам старые образы-стенограммы, темные испарения кутают меня с головою, душа исходит, оплакивая самое себя. Мысли знакомые, «исхоженные» вдоль и поперек, условные нерасцвеченные контуры. (О бабочке- acentropus , чья самка живет в воде – поднимается на поверхность только для оплодотворения, – часто увлекает своего крылатого мужа в пучину. О дереве алоэ – огромные агавы, – что цветет раз в сто лет. Но и живет оно немногим больше: только для одного этого цветения. О, если бы оно не расцветало… или – по-иному! Отдавать себя, чтобы плодить новых, так же слепо отдающих себя. Пока Один не поймет чего-то, – но что? – отвернется, перешагнет через проведенную мелом куриную линию и будет жить вечно…
О круглом черве diplogaster tridentatus – что имеет слишком узкий проход, и созревшие личинки, не пролезая, вынуждены поедать внутренности матери, – прогрызая себе дорогу наружу: символ всякого материнства.) Темная моя истома достигала тем вящей силы, чем острее было предыдущее насыщение, растворение, чем искреннее все клетки тела принимали в нем участие. Клетки же самозабвенно и единодушно вовлекались в игру только в том случае, если встречали полную противоположностей ткань: словно два предмета, искривленные в разные стороны, теряя равновесие, ищут свой центр тяжести в безликой серединке. Я превращался в свидетеля-жертву этого огромного поля борьбы, где десятки миллионов клеток иррадиировали [153] , сотрясались, сжимались, тяготели: слепые полчища пробегали по мне, топча лапками, отравляя ядовитыми газами. И когда: вот, уже агония… некто во мне, жестокий, умелый и древний, намеренно выключал главный центр, отделялся (сдерживал дыхание), этим ломая действо на две части, растягивая, механически, сметливо, почти вхолостую продолжая его: подтверждая таким образом превосходство и власть (в чем ответно ему радостно и догадливо помогали). А потом короткая, беспредельная вспышка, саморастворение в пучине, харакири. Вы делаете так. Вы делаете так, и так, и этак. Вы опять пробуете сначала. И скоро вам уже ничего не придумать. А ночь еще впереди. Вся ночь агонизирующего. Она бредет за стеною: тук-тук. Она идет, как парусная баржа при резком боковом ветре, как самоубийца, чей револьвер дал осечку, как жандармы в день праздника труда, как ты, смерть моя, за плечом. (Господи, долго ли еще?) Спит, открыты глаза, что видит… Рядом голова, душа, изолированная кожей и косточкою. Чужая. А где-то переплелись: грызи в веках – не порвешь. «Кто эта женщина? Зачем молчит она, зачем лежит со мною рядом», – перевираю прелестные стихи неведомого автора (должно быть, из тех, что оказываются слишком умными для поэзии). За окном шум каблуков: спешат… домой… Мне становится жаль Николь. Двойная нежность бередит сердце: равнодушие (ложь) и чувство общности судьбы – тавра гибели. «Ей тоже нелегко, – пробую. – Что же, матушка, не плакать же вместе». Притрагиваюсь к ней, пестую. Неподвижная до сих пор, Николь сразу прижимается ко мне, спокойная, польщенная, готовая исполнять свою роль, до конца. «О чем ты думала только что?» – допытываюсь и тотчас же краснею: стыжусь. «Я? Не знаю. Ни о чем. Да, я подумала: как слоны творят любовь? А, вот, должно быть, зрелище!» – и она по-детски восхищенно ерзает. «Погоди, не шевелись», – приказываю, и благодаря властному окрику она мгновенно меняется, настороженно, выжидательно подчиняясь. Я снова возвращаюсь рукою к тому месту на груди, убежденный, повергнутый, словно заранее, безотчетно, предугадывая разумность близкой беды (так дикий зверь «узнает» и «приемлет» западню и потому так слепо бьется и трепыхается в ней). Ощупываю правую грудь, давлю, растираю пальцами – против решетки ребер. Теплая – замерзающая – испарина окатывает меня; изнеможенно (и фальшиво) ворочаю шеей: «Тесно». С тихим треском фосфоресцирует потайная лампа, озаряющая время: вырывает из прошлого пляшущие конусы. Я вдруг начинаю постигать значение каждого слова, жеста, взгляда – бегство, преследование – моего с Николь, сложность отношений. Все принимает новую окраску, свой истинный лик, слышу терпкий запах горя: мы в капкане… но почти радуюсь: прозрению, образу внутренней структуры, высшему смыслу. Дрожащими перстами зажигаю свет, стараюсь профессионально-ловко шутить; но что-то, должно быть, сочится из меня: вяжущее, страшное. Оцепенение передается ей: начинает дрожать, смиренно, детски покоряясь моей воле, а взгляд ее (полукругом в сторону) снова принимает это выражение мучительной растерянности, пробуждающейся памяти после неумного сна. Нащупываю маленький бугорок: свинцово-твердый с цепляющимися вглубь острыми веточками, корешками; слева подмышкою нахожу дробинку ганглия, справа, кажется, тоже мелькнул один (помягче), но я его потерял. «У вас это давно? – спрашиваю и поправляюсь: – У тебя это давно?» Ответ: «Это? О, нет. Впрочем, не знаю. Ах да, месяца три тому…» – и рассказывает нечто, совершенно не относящееся к делу. Из расспросов удается выяснить, что в прошлом было несколько абортов (и даже – весьма поздние). «Тебе придется полечиться», – говорю развязно. «Неужели операция? Это рак?» – настаивает Николь. «Сущий пустяк. Детская забава. На твоем месте я бы это немедленно вырезал». Голос у нее спокойнее: «Ты думаешь? – она улыбается (О, если бы заглянуть себе в глаза). – Но мне не отрежут грудь!» – спрашивает горделиво-кокетливо. Она вся чудесно раскрыта: такой, искупающей двадцать лет каторги, мерещилась, когда я спасался. Но теперь эти пленительные, созданные нарочито для объятий стати, укрепляют лишь мое опустошение и жалостливую брезгливость. «Нет, нет, я не отдам твою грудь, penses-tu ! [154] » – клянусь. «Это правда? – в ее улыбке больше уступчивости и благодарности, чем веры. – Как хорошо, что я тебя встретила!» – решает Николь. А я скрежещу зубами. «Ты все знал, сволочь, и не уберегся. Судьба окликала тебя. Лоренса, ты меня покинула. Боже, Боже, зачем я обреченный. Конечно, обухом повержен, земля мякнет, уходит навсегда». Другой голос: «Облегчи, утешь ее, глупую, прими ответственность, близок темный час, вот смысл события». – «Но я не святой!» – возмущенно защищаюсь. Тихий голос: «Что же делать, что же делать…» – «Ладно, – шепчу. – Смотри же!» (А на кладбище хочется оплодотворения.)
Часть четвертая Полпути
Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là.
Pascal
[155]
1
Я возвращался обычно поздней ночью. Шел мимо запертого, незнакомого, темно-курчавого Люксембургского сада, равнодушно (полумертвый) нюхая очищенную, причастную тайнам, обновленную свежесть дерев и кустов. В эти минуты кто-то просыпался во мне, глубоко на дне тюрьмы слабо потрясал колодкою, скулил, покаянно требовал воли и смолкал, неуслышанный. Произошла странная вещь; я почти лишился инстинкта самосохранения. Соблазнительно-жутко! Как в чужом доме проснуться и целую вечность не уметь припомнить, где ты, куда головою лежишь… как в грозном бору, потеряв направление, петлить, кружа и отклоняясь! Сладостный отдых для души. Ибо нет ничего желаннее для нее, как быть потерянною. И в то же время нужно мужество, чтобы не ускорить шаги, не взмолиться, не напрячься и тем самым положить конец опасному блужданию. (Некий голос: «Дольше ты продержишься, ценнее твоя душа; этою же мерой в решительную минуту тебе отмерят и отвесят»). Перед музеем с дремлющими во дворе состарившимися, каменными героями – писсуар. Нищенски гудит газовый рожок, вода стекает с вешним шумом; на облупленных, жестяных стенках искусно изображены обнаженные торсы; надписи: “ Faites l’amour entre garçons… а bas les juifs… vive les soviètes… au poteau ” [156] (на гильотину), кого именно, не разобрать: целый столбец, карандашом, словно кинжалом, перечеркивается одно имя, ожесточенно выводится другое. Огибаю Сенат с тенями стражи; на противоположной стороне два ресторана с пестрыми абажурами уже потушенных ламп. Здесь усатые генералы между двумя блюдами, во время восстания, отдавали приказ о расстреле. (“ Vive l’humanité” [157] – залп). Врезаюсь в сеть загадочных улочек меж театром Одеоном и площадью Сэн-Мишель. Тут каждое здание напоминает морг. Вот-вот из старого решетчатого окна вдруг глянет, склонится голова Марата (как из ванны на картине Давида). В темных подвалах медицинского факультета (старая школа) шумит проточная вода. Там под кранами хранятся трупы; в глубоких ваннах плавают мертвецы – большие селедки, огурцы, – их мешают огромною ложкою. Когда подадут на стол, кожа будет беловато-мягкая, обработанная рассолом, как тончайшее шевро [158] или замша. Подают, убирают, меняют, взвалив на плечи полкорпуса, уносят в кабинет к просектору, – обыкновенные, вытренированные люди. Сторож моего отделения ничем не отличался от любого рабочего, контрмэтра [159] . И только глаза его – поражали. Он пил много – всегда, – не хмелея, но огромная масса поглощенного им алкоголя точно собиралась, оседала в его зрачках: ширились, вздувались, безумели. Один, в сумерках (мы уходили в пятом часу), он убирал, подготавливал к следующему дню, расхаживал меж столами, сортировал кости, черепа. Если ему дать пятерку, он выберет лучший труп: не старый, без внешних изъянов. Однажды с довольным лицом сообщил: «Девушка, есть настоящая девушка…» – и мы все потянулись гуськом к столу счастливцев. Она лежала вытянувшись, раскрытая, большая, белая, вдумчивая, каким-то непонятным образом утверждая свое целомудрие. Не знаю, откуда это пришло: январские потемки, мокрые носки (меж трупами на влажных каменных столах), но я вдруг нашел себя счастливым, благодарным, не одиноким, бессмертным. Что-то налетело, закружило, подняло меня из пота, заношенного белья, старых мыслей: «Хранила себя, отказывалась, и вот ранняя смерть, к чему было всё…» Я узнал: нужно, осмысленно, не пропало еще, не уплыло, – есть, есть продолжение, хотя бы в моей нежности и внезапной близости к ней. Спиралью: «Клянусь запомнить навеки эти верные слезы и посвященно служить тому же». Обойденные приставали к сторожу: «Вы не могли бы нам ее дать». В разных углах говорили на фривольные темы, рассказывали о странных формах извращения, представляли в лицах (и эта гнусность среды еще убедительнее подчеркивала значимость и реальность моего восхищения). Пока дежурный аудитор мощным стуком кулака не дал понять, что начинает урок. Маленький, жгучий корсиканец, он с дырявым чемоданом приехал когда-то в Париж. Его сородичи завоевали монмартрские притоны; он предпочел медицину, внося туда элемент кабака. Раз, проходя мимо нашего стола, он железным блюдцем (куда бросают лоскутья жира и кожи) нанес трупу такой удар, что сломал ему челюсть. Первый, «мой»: старик с гетманскими усами, картонный браслет у кисти (без имени, номер, палата). Бросил на пол этот последний след его существования, затем, поморщившись, поднял и спрятал в карман. («Нет, нет», – все кричало сердце.) Отчетливая, юная мускулатура, и только мозг – когда добрались – оказался разжиженною мазью. Я унес в кармане кристаллик его глаза, хотел вправить в кольцо (думалось: пропускал, отражал – целую жизнь, – не поведает ли о виденном). Но вскоре отказался от этой затеи и вернул камешек: хоровод скелетов плясал у моего изголовья, ночью, в нетопленом отельном номере. Мне и студенту-румыну достались ноги, две француженки работали над руками, а бедняге греку, Куляксизилису, гному со странным голосом, любившему стихи, – как самому слабому, выпало худшее: шея, мелкие мышцы и артерии, начинать труднее. А к Масленице грек заболел гриппом и нелепо скончался в госпитале. Стыдно вспомнить дешевую литературность жизни: на лекции в амфитеатре коллегам-стажьерам [160] подали на блюде его нищее сердце; мы потыкали деревянною планкой (что прижимают язык, заглядывая в горло) раненые, запухшие клапаны. “Pauvre enfant” [161] , – счел нужным бросить нам сторож; а мы, осиротевшие, благодарно и заискивающе искали его взгляда (в засаленном переднике он проходил, неся на плече тушу негра).