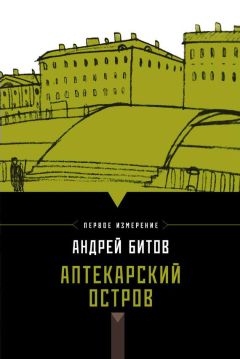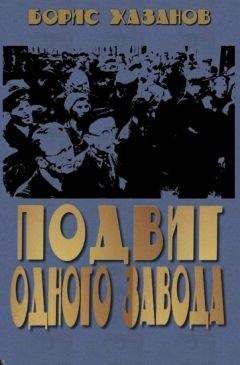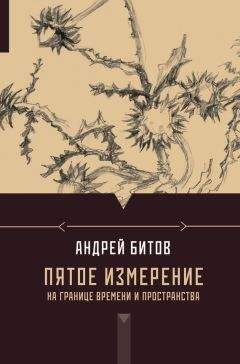Андрей Битов - Аптекарский остров (сборник)
Рейсы задерживали, но к нему это пока не относилось: до самолета оставалось все то же количество невыносимых похмельных часов – стрелки зависли во времени, будто само время стало, оттого и самолеты не могли лететь, и люди, все те же, не трогались с тех же кресел. Но билет у Монахова был – гарантия возвращения в кармане, – Монахов был готов терпеть: там, куда он летел, его ждали, там ничего не было испорчено вчерашним днем, оттуда легко вычиталась вся его командировка – там не бывало его прошлого, там была его жена. «Да, – усмехнулся Монахов, – жена – это не прошлое, жена – это самое что ни на есть настоящее…» В мыслях у него не было прошлого, никакого их опыта, ни одной их ежедневной ссоры не всплыло в памяти – в мыслях у него было, как же это она так долго терпела его, так долго, что была теперь у него возможность вернуться к ней, а то ведь и некуда было бы вернуться…
На секунду жена мелькнула перед ним, как бы в коридорчике: он увидел ее поясок. Хотел увидеть лицо – что-то придавило взгляд, и она успела скрыться у себя, прикрыла дверь. Монахов остался разглядывать коврик в их крошечной прихожей, сношенные тапки рядом с ковриком – хоть убей, он не мог вспомнить лица жены. Это казалось важным, а затруднительность – нелепой. Зато легко, во весь экран, во весь мозг всплывало лицо Наташи: «Что же ты, Монахов?..» – именно этот взгляд и поворот. Он пробовал отвести это изображение в сторону, представляя себе Ленечку, – опять нет: ускользал этот ухмыляющийся обмылок. Зато вдруг – одним росчерком схваченная поза – щурилась Наташина тетушка… Ну их! Монахов в который раз глянул на часы – так они и впрямь стояли! Вот отчего время не шло!.. Он забыл их завести во всей сумятице, что немудрено. Они, может, еще вчера стали…
И Монахову стало легче, отпустило. Ему настолько стало легче оттого, что в одну секунду пролетело почти два часа: теперь-то что, теперь уже почти ничего, дождемся… – с такой положительностью заводил он часы, переводил стрелки, будто делал полезное дело. Он ожил – какое бы еще полезное дело сделать? – уступил место цыганке с дитем. Бровью не повела – тут же села, достала титьку, Монахову стало весело: народ… Купил книжку Зябликова о пингвинах. Что еще? Он брел теперь по залам, толкая коленом корзину, снисходительно усмехаясь собственной глупости: местечка больше не было ни одного. И все-таки нельзя было сравнить его нынешнее состояние с миновавшим: никакого сравнения. «Хорошо, что не похмелился, – думал Монахов. – Хорошо, что Наталье не позвонил…» Ведь вот что получается: он возвращается даже раньше, чем его ждут. Его только завтра начнут ждать, а он еще сегодня, даст бог… Выйдет, что он торопился, рвался… Монахов ничуть не был смущен некоторой несимпатичностью подобных расчетов: его устраивало, он устраивался… Он устраивался заранее на прежнем своем месте, и оно теперь нравилось ему и удовлетворяло – он словно чуть ерзал, для окончательного удобства. Рутина и обыденность его каждого дня настолько устраивали его как перспектива, насколько не устраивали как жизнь. Не было для него теперь большего счастья, чем угнездиться в собственной нише. А вот лиши его этого? – думал Монахов… этого типового, малогабаритного…
И – где он? Что у него останется? Что у него есть-то! Ну, звание… Вроде с ним не пропадешь. А без звания он что? Ну дело-то он знает! А кто это будет знать, если без звания?.. Так ему стало странно: добивался, колотился, жизнь прошла в одних успехах: школу кончил, институт кончил, аспирантуру кончил, диссертацию и ту защитил, – и что? Какими-то невидимыми линиями себя обвел: семья, работа… А без них он кто? Есть такой Монахов или одна прописка да должность? «Чего только не придет поутру в голову! – усмехнулся Монахов. – Может, все-таки стоило похмелиться?..» Он окинул взглядом зал – самолеты все не летели. «А эти?.. – спохватился он, в ужасном озарении окидывая зал. – Сколько их?..» Людей, собранных под эту бесконечную крышу (Монахов глянул в бетонное небо аэропорта и определил тип перекрытий), было много. Всех их всосала эта аэропауза, и Монахов не был главнее их. На каждого приходилось столько же жизни, сколько и для него одного. Каждый был повязан теми же невидимыми и неразрывными нитями принадлежности к ней, и никто из них, даже кляня свою судьбу, не махнулся бы ни на чью другую. Монахов потерялся в этом обобщении – оно напоминало все тот же набитый людьми бесконечный зал, который и без того был перед его глазами.Однако время шло и прошло. Одному аэропорту известна воля Божья. Он начал наконец вычитать чье-то время из общей паузы, и счастливая судьба одиночек окрылила надеждой всех. И каково было Монахову, прикинувшему общее опоздание и уже твердо рассчитывавшему вылететь никак не позже, чем… вдруг осознать, что ведь его рейс выкликают первым, его! И, спотыкаясь о все ту же корзину, точно так же, как и вся эта бестолочь, не поняв, где регистрация и точно ли тот рейс, удивлялся он этому решению «Аэрофлота» отправить его, Монахова, вовремя, вместо того чтобы пропустить вперед задержанные рейсы. Но мы не анализируем подолгу причин везения, принимая их на веру или как должное. Монахов успокоился, обретя себя в самом хвосте регистрации. Здесь он обрел себя, в последний раз убедившись, что и билет цел, обрел и стал отделять от толпы, столь суетливой и бессмысленной – он их как бы не понимал: куда лезут, зачем давка?.. Одна фигура остановила его внимание – вся в черном: очевидно, вдова. Ногу видел Монахов, худую, в толстом чулке и грубой туфле, чулок перекрутился винтом… затем потную шею, натруженную, как руку… возбуждение – красными пятнами по горю: глаза из-под платка горели страстью очереди. Вдова оториентировалась еще позднее Монахова – теперь громоздила на него свои фанерные чемоданы. Две старухи-родственницы подзуживали ее гортанным квохтаньем. Что-то знакомое померещилось Монахову в ее диком лице. Будто он ее уже где-то видел… Не мог он никого здесь знать – это уж точно. Монахов пропустил ее вперед. «Сколько ей может быть лет? – думал он. – И шестьдесят, и тридцать…» Снова он был один, такой умный, который понимает все прежде, чем ему скажут: не толкался, знал свое место – грамотный, опытный пассажир. Один он здесь был такой и, когда поймал призывный взгляд еще одного такого же, выщелившего Монахова из всей толпы как своего, взгляд, приглашавший поделиться скептической улыбкой посвященности, то надо отдать Монахову должное, не стал ответно подмигивать, а смутился, застиг себя: нелюбезно увел взор – отделил себя и от этого товарища.
И дальше у Монахова шло все более по маслу: корзину позволили не сдавать в багаж, место досталось у окошка и не над крылом, и самолет, что самое невероятное, не только вылетал по расписанию, но и тех обычных получаса опоздания, что повергали его всю жизнь в недоумение, что же считать временем отправки: посадку в самолет, запуск двигателей или отрыв от земли, – даже этого получаса не предвиделось. «Неужели? Быть не может…» – ликовал Монахов – самолет уже отволокли в сторонку, и он гонял винты. «Выходит, именно взлет… – решил Монахов (оставалось еще пятнадцать минут). – Мы именно оторвемся от земли минута в минуту по расписанию…» Значит, дома ему уже теперь точно быть… Совсем рано еще попадет он домой. Его не ждут… Вот она удивится!..
Монахов отвернулся в иллюминатор, расплывчатая улыбка блуждала по его лицу. Видел он впереди огни ресторана и выдачи багажа – они зажглись, стремительно смеркалось. «А когда объявили посадку, было еще совсем светло…» Сбоку, то быстрее, то медленнее, словно то в ту, то в другую сторону, вращался винт. Все это были гарантии, и душа Монахова исполнялась таким спокойствием, какого давно не знала. Нет, не то его стерегло, чего он не предполагал и что так легко предположить: неожиданное возвращение мужа из командировки… Еще и до этого счастливого момента подстерегало его нечто, чего никто – ни вы, ни я – предположить не мог бы… Случай.
Самолет уже весь дрожал от предстартового возбуждения, винты от быстрого вращения растворились в воздухе, когда навстречу самолету выбежал Случай в образе Ленечки. Сразу оговоримся: это был не Ленечка. Но парень был молод, и широкое его лицо освещалось столь простодушной и открытой улыбкой, что на секунду Монахову и впрямь показалось, что не кто иной, как Ленечка… Парень был хорошо освещен какими-то косо бьющими, не видно откуда, прожекторами, но наступила все-таки ночь, Монахов мог и ошибиться. Он мог предположить, а Наталья могла и послать, а Ленечка мог согласиться на любое ее поручение… Скажем, он бежит сейчас, волнуясь лишь о том, что не выполнит Натальин приказ… Парень бежал, как видно, из ресторана, размахивал на бегу чемоданчиком, будто такси останавливал. Не похож был на сильно выпившего – просто нелепый такой малый, как Ленечка… Монахов ему с симпатией посочувствовал – кто же мог ожидать, что их посадка пройдет так скоро: он сам чуть в город не уехал… Но парень тоже дурачок – кто ж его посадит: и трап уже где, и люки задраены… Бежит себе, машет, кричит на бегу – не слышно; что же тут услышишь, за моторами?.. И летчики небось не слышат, смеются, качают головами… Самое привлекательное было в этом парне, что он еще и улыбался на бегу, будто радовался, что все-таки успел, и не сомневался, что его впустят. И вот он добежал до самолета, как раз с монаховской стороны, подняв обе руки, будто финишную ленточку рвал, размахивая над головой чемоданчиком, – с раскинутыми руками он и взмыл, как птица. Ноги его взлетели вверх – все это было так хорошо видно Монахову, словно его специально посмотреть посадили, – и упал навзничь на землю, прямо под самолетным крылом. Монахов еще ничего не понял, только подхватил общее «ох»: не один он смотрел. Парень лежал под крылом, там было темно. Кто-то со сладострастным любопытством навалился на Монахова, дыша ему в лицо сыром и урюком, – Монахов не отстранился, неотрывно смотрел под крыло, неслышно для себя шептал: «Ленечка…» И тут яркий сноп выхватил из ночи тело парня – это был, конечно, не Ленечка. Подъехал газик и осветил «неЛенечку» фарами. Он мог быть солдат, отпускник или даже («Совсем обидно», – сказал бы кто-нибудь) демобилизованный: гимнастерка на нем была без погон. В руке он все еще сжимал чемоданчик, разрубленный пополам: оттуда, как внутренности, выползало скомканное белье. Монахов видел его всего, но воспринимал не все: пока – чемоданчик. Тут, в последний раз дрогнув, остановился винт, черный против света, нижней лопастью указуя в сторону парня, и все стало ясно, и Монахов увидел все: лоб парня был наискось рассечен этим самым винтом, под головой медленно – так медленно! – ширилась и стыла, ширилась и стыла черная и густая, как ночь, лужа. Он был еще жив, и смерть его не вызывала сомнений. Рот его все еще был растянут в улыбке, и губы чуть подрагивали; глаза были прикрыты. Будто он спал и улыбался во сне, и сон его был приятен. Улыбка таяла, но так и не исчезла до конца: она была той же формы, но означала другое. Высокое спокойствие, и будто мысль, сначала удивившая, непривычная, а потом наконец понятая тем самым умом, в котором родилась… эта мысль поразила Монахова. Она прорастала, как бледность, по мере которой ширилась, как черный нимб, лужа, – и это было уже чело… Смерть подступала волнами, волнами отливала жизнь. Эта непостепенность поражала оглушенное сознание Монахова. Так же, как и эта остывшая страшная лужа под головой казалась не меняющейся, и вдруг было видно, как она еще разрослась, – так и эта бледность, которая была уже последней, до капли, вдруг и еще белела. «Умер», – говорил себе наконец Монахов и утверждался в этом – и вдруг снова (было бы невозможно и заметить, если бы не смотреть так неотрывно, как Монахов), еще раз трогались в этой невозмутительной улыбке губы – он был еще жив. Монахов ждал агонии, о которой слышал и читал, ее не было. А вот высокая мысль, все больше высвечивавшая это великое чело, была. Монахов не был поэт, и поэтому можно ручаться за истинность его наблюдения: впервые на его глазах умирал человек. И каждый раз, когда он говорил себе: «Мертв», – это все еще оказывался не конечный смысл той великой мысли, осветившей и успокоившей лицо солдата; но выше уже не поднимался Монахов: там его не было, он был жив. Около парня потоптались одни сапоги, потом другие. Один раз посмотрел Монахов выше: плотный мужик в летной фуражке, вылезший еще из одной машины, имел очень правильное выражение лица: тупое и злое на жизнь. Лицо его ничего не выражало, кроме этой возвышенной досады, – в этом была дань. Спохватившись, что его видят из самолета, мужик отошел в ночь.