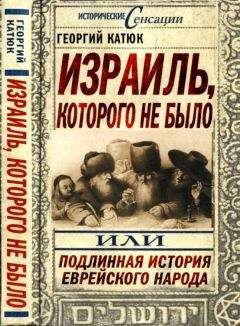Александр Казарновский - Поле боя при лунном свете
– Рувен… – послышалось. – Рувен…
Сначала я не понял, чей это голос. Потом понял – Цвикин. Слабый такой голос.
– Что, Цвика? – спросил я.
– Очень жить хотелось, – ответил невидимый Цвика и заплакал.
У меня сдавило горло. Через несколько мгновений плач стих. Луна – блеклая, жалкий отблеск той, что была во сне – медленно поползла по горизонту. Комната закружилась, и я вновь с «береттой» в руках очутился на тропинке между баскетбольной площадкой и общежитием. Я вновь убегал от террориста. Но сейчас я был уже не механизм, а живой человек, умирающий от страха, и самое главное было – бежать, бежать, бежать – бежать куда глаза глядят, и вовсе не для того, чтобы дальше драться, а только бы спастись.
И тут – очередь. Я почувствовал, как земля, поросшая рыжею шевелюрой травы, поднимается мне навстречу, и мое лицо вжимается в нее, и вот я уже не могу дышать и из последних сил пытаюсь оторвать от нее лицо, приподнять голову, и вижу – это подушка. Я дома, я в своем эшкубите, а в окне… а в окне нет никакой луны.
Куда она, зараза, делась? Я подскочил к окну. Нет, слава Б-гу на месте. А который час? Я посмотрел на мобильник и обомлел. Три пятнадцать. Это что же, я больше часа с четвертью с телефоном в руке ворочался? А ведь сон был какой-то мгновенный. Может, я ошибся? Я еще раз взглянул на телефон и понял, что действительно ошибся. Только в другую сторону. Было не три пятнадцать, а четыре пятнадцать. Пять пятнадцать… шесть пятнадцать…
Меня опять закрутило, кровать исчезла, и я оказался в кресле, обтянутом синим с красными и желтыми вкраплениями чехлом. Снова сон, которому суждено было через двадцать дней стать явью. Я сидел в голубой «Субару» рядом с Шаломом. Мимо пролетел дом с мозаичной мечетью, особнячок с антенной в форме Эйфелевой башни, коровья шкура… Машина, поднимая пыль, двигалась по узкому переулку через арабскую деревню.
Восемнадцатое таммуза. 15.40
Машина, поднимая пыль, движется по узкому переулку через арабскую деревню. Двух-трехэтажные каменные дома, а вокруг – ни цветочка. Всё это уже было, правда, не наяву, а в том кошмаре, который привиделся мне через ночь после побоища.
«Форд мондео» летит впереди нас, временами подскакивая, как каяк на излучине в верховьях Иордана. Через несколько мгновений на тех же камнях подскакивает и наша «Субару». Ах, если бы в том сне я разобрал, что гонюсь за белым «фордом-мондео», а потом наяву опознал бы его на улице нашего поселения. Впрочем, представляю:
– Алло, полиция! Тут мне сон привиделся…
Но шутки шутками, а я помню вот этот напоминающий пагоду особнячок с черепичной крышей, увенчанной антенной в виде Эйфелевой башни, я знаю, что будет вон за тем углом. Там, на крючьях, торчащих из бурой каменной стены, висит коровья шкура. Мы заворачиваем. Пожалуйста, вот она – скукоженная, потерявшая свой цвет от солнца. Корову, небось, зарезали уже давно – и ели тайком от оголодавших за время блокады соседей. В былые времена арабы забивали и свежевали коров и лошадей прямо на улице, на глазах восхищенных ребятишек. Там же совершалось и разделывание туш. Однажды, проезжая через арабскую деревню, я видел, как аксакал в белом уборе, похожем на чепец, отпиливал бурёнке голову, а пацаны вокруг что-то радостно кричали.
Так жили арабы. Но не в радость было им мясо – евреи портили настроение. Вот и начали они эту войну. А война всегда война. От евреев пока избавиться не удалось, а вот от мяса… Жалко их, дураков. В дурацком мы положении – гонимся за ним при том, что местность он знает куда лучше нас. Вихляющие переулки, сужаясь у нас за спиной, уходят в бесконечное прошлое. Я потерял счет (по правде говоря, и не пытался считать) проносящимся справа и слева грязно-белым зданиям, которые в жизни бы не назвал деревенскими. В окне машины вспыхивают и гаснут живые картинки, которые не время рассматривать – подросток в боковом переулке, ведущий под уздцы низкорослую белую кобылу, открытый гараж, где на фоне старенького «Мерседеса» два араба сидят на табуретах и задумчиво курят, еще один араб, в шляпе, забрался на огромную глыбу и обтесывает ее киркой.
«Форд» выскакивает на проселочную дорогу. Мы – за ним. Как всегда, в машине Шалома нестерпимо жарко и душно, как всегда, окна задраены, как всегда, кондиционер не работает.
– Рувэн! Ест у тэб'а што-то курыт.
Вопросительная интонация в голосе Шалома практически не слышна. Неужели они на английском всегда так вопросы задают?
Я угощаю его сигаретой. Зажигаю огонь и вновь смотрю в окно. Расстояние между нами и «фордом мондео» начинает сокращаться, и я, не спрашивая разрешения у Шалома, открываю окно, высовываю в него свою «беретту», но не стреляю. Если солдаты чутко откликнутся на выстрел, в тюряге окажемся мы, а он смоется. Поэтому, если бить, то наверняка. С другой стороны, я понимаю, что он сейчас отколет еще какой-нибудь трюк. Проблема ведь в том, что не только мы его раскусили, но и он нас. То есть он раскусил, что мы раскусили. Следовательно, добра от встречи с нами он не ждет и встречи этой всеми силами пытается избежать. А местность он знает лучше, чем мы, значит, стрелять надо сейчас, а не то уйдет и уже наверняка. Шалом понимающе кивает и берет чуть левее, чтобы я мог выстрелить. Я палю – и мажу. Скорость все-таки. «Форд» срывается с «шоссе» и едет по относительно широкой террасе между олив. Мы, естественно, следом. При этом и мы, и он все равно замедляем ход, поскольку терраса, хотя и широкая, но относительно, очень относительно, к тому же врезаться в оливу – а они здесь старые, толстые, кривые – можно только так. Из-под колес летят комья вспаханной сухой земли, Вся-то террасочка длиной примерно сто метров. Она оканчивается каменной кладкой, но метрах в трех перед нею торчит гряда серых пористых глыб, из расселин между ними свисают сухие корни и сухие стебли каких-то вьющихся растений. У этой гряды его машина останавливается. Расстояние между нами – метров сорок, не больше. Мы уже ликуем, но тут очередь прошивает лобовое стекло нашей «Субару». Пули проходят между мною и Шаломом и, сказав «гудбай», удаляются через заднее стекло. Ни фига себе! Значит, у него есть автомат… Судя по звуку, тоже «эм-шестнадцать». Интересно, как он его провозит через блокпосты? Ведь разрешения на оружие у него наверняка нет. Неужели не боится проверок? Эти мысли проносятся у меня в голове в тот момент, когда мы с Шаломом инстинктивно пригибаемся. При этом Шалом не забывает нажать на тормоз. Положение у нас, прямо скажем, аховое. Он уже выскочил из своей машины, и целится, прячась неизвестно где. Может, за какой-то оливой, скажем, вон той, с черными выемами под стать дыркам в камнях, может, за одной из этих здоровенных глыб. Если мы сейчас вывалимся в разные стороны, оба окажемся перед ним на ладони, но один из двоих при этом, может, и уцелеет. А вот если мы еще на секунду задержимся в кабине, тут-то он нас обоих точно чпокнет.
За двадцать дней до.28 сивана. (8 июня) 9.00
«Он нас чпокнет…» – закричал я во сне и проснулся от собственного крика. Всё, что мне виделось или привиделось, стало чернеть, рассыпаться в прах и уноситься потоком из памяти.
Утренний туман давно уже приказал долго жить, поскольку было уже девять часов. На работу идти не нужно было, – пятница, ребята уехали еще вчера. А утреннюю молитву в синагоге я безнадежно пропустил.
И вот я, умывшись, одевшись и безжалостно обстреляв себя дезодорантом «Клео», приступаю к беседе с Творцом. И что с того, что слова всегда одни и те же – я-то каждый раз другой.
Главное, никогда не знаешь, на какой строчке молитвы начнется парение. Сегодня это – самое начало « Шмоне эсре »:
«Благословен ты, Г-сподь, наш Б-г,
Б-г отцов наших,
Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г Яакова…»
Взгляд уходит куда-то вверх, и ты физически ощущаешь, что Он, невидимый – там. Над тобой вырастают фигуры праотцев.
Они – немножко ты и немножко – Он. То есть они – ключ к Нему. И ты уже рядом с ними и рядом с ним.
«Б-г великий, могучий и грозный…»
Перед тобой раскрывается космос, и твой недавний Собеседник вырастает во всю свою
бесконечную величину, а ты начинаешь уменьшаться до размеров бесконечно меньших, чем самая бесконечно малая песчинка.
«И помнящий благие дела отцов,
И приносящий избавление сынам».
Да ведь этот Бесконечно Великий меня, бесконечно малого, любит.
И защитит. И бояться нечего.
Тут я действительно успокоился и даже рельефное воспоминание о ночном кошмаре с мертвецом, равно как и смутное воспоминание о какой-то пригрезившейся мне погоне, не помню с кем и за кем, всё это малость померкло.
Затем, правда, засвербило: «А Цвика с Ноамом? Их Он, что, не любил?» В воздухе нарисовалось лицо Цвики, веселого, того, каким я его помню.
И все-таки, эта мысль не могла помешать разливающемуся по телу, вернее, по душе, блаженству защищенности, чувству, что всё, решительно всё, что Он делает – правильно, а значит, всё в порядке, как бы страшно оно ни казалось со стороны.