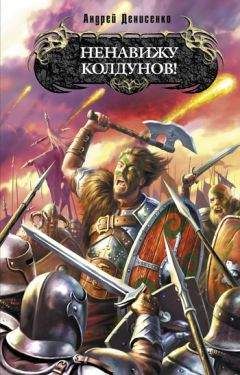Роман Сенчин - Мы памяти победы верны (сборник)
– Всё! Моряки уходят!
Надежда Викентиевна пожурила Машу за распускание панических слухов, спокойно додежурила, но после дежурства пошла на Неву посмотреть и позвала с собой Нину. Мосты действительно были разведены, и вверх по реке в сторону Ладоги действительно тянулись военные корабли.
– Красивые черти, – только и сказала профессор, глядя им вслед.
Закрылись коммерческие магазины. Уменьшена была норма хлеба по карточкам. Потом уменьшена была еще раз. С октября Нина получала четыреста граммов хлеба и однажды призналась себе, что постоянно чувствует голод, даже несмотря на то, что в клинической столовой кормили, не вырезая карточек. Зарплату задерживали все чаще, купить на колхозном рынке ничего было нельзя.
Толик часто писал. Каждое свое письмо он заканчивал словами «постарайся хорошо питаться». Летом Нина злилась на неприемлемую для военного времени обыденность этих слов. К середине осени стала думать, что Толик – единственный человек, который ее понимает.
Чтобы не поддаваться панике, записалась в комсомольский отряд противовоздушной обороны. Ходила дежурить на крыши во время бомбежек, но бомбили в основном юго-западную часть города, а Петроградской стороне доставалось мало. С крыши Нина видела 8 сентября в лучах заходящего солнца красивейшее облако бело-багрового дыма. Маша потом говорила, что это горели Бадаевские продовольственные склады – вся запасенная для города еда. А еще распускала слухи, что немцы взяли Шлиссельбург и Мгу, что город окружен и настанет голод. Ни на чем не основанные слухи. В райкоме комсомола про Мгу Нине подтвердили, про Шлиссельбург опровергли. Слухи про окружение города назвали паникерством, но раздали комсомольцам револьверы, а комсомолкам – финские ножи. Стрелять Нина умела, но как сражаться ножом – не имела понятия.
В годовщину революции товарищ Хозин по радио впервые произнес слова «охватили город кольцом блокады». А товарищ Сталин сказал, что нужно «потерпеть годик». Сколько? Годик?
В институте тоже был митинг. Проректор кричал истерически и размахивал руками:
– Каждый должен быть готов защищать город с оружием в руках! Изобретайте себе оружие – ружья, палки, ножи!..
– Я со скальпелем пойду на врага, миленький, – прокатилось над головами насмешливое контральто старухи Ильмъяр.
Нина подумала, что вот у нее есть финский нож, но он совершенно бесполезный.
Изо всех окон летел пепел. Сначала в райкомах партии и комсомола, а потом и во всех других учреждениях жгли документы. Невесомые останки бумаг кружились над городом, как черный снег.
Раненых с каждым днем было все больше: военных с фронта и штатских – от обстрелов. А в городе с каждым днем все больше становилось беженцев из пригородов и южных районов Ленинграда. Их было жаль, конечно, но они несли с собой дух разложения и беспорядка. Сидели на тротуарах, ночевали в парадных, просили милостыню, распускали нелепейшие слухи. Что немцы, дескать, разбрасывают с самолетов пропуска на оккупированную ими территорию, и кто воспользуется пропуском, пойдет и сдастся, того сразу кормят и решают вопрос с жильем. Только вот, говорили, милиция эти пропуска собирает и прячет. Еще говорили, что Сталин приказал Ленинград взорвать, что только Ворошилов уговорил не взрывать пока, но город заминирован, для того и роют на улицах. А раненые бойцы бесперечь твердили про красного командира в длинной шинели, который будто бы являлся каждому умирающему, как Летучий Голландец в книжках про морские приключения являлся погибающим кораблям.
На все эти слухи и россказни Нина жаловалась Надежде Викентиевне, просила пресечь и запретить безответственную болтовню хотя бы Маше. Но профессор говорила:
– Ничего, миленький. Народ дремучий, конечно, но, попомните мое слово, эта дремучесть для немцев окажется едва ли не страшней, чем танки.
Нина не могла согласиться. Она была уверена, что распускать ложные и панические слухи нельзя. Более того, следовало бы просвещать народ, разъяснять сущность империалистической войны, растолковывать, что фашистское правительство Германии долго не продержится, что германский пролетариат воевать со страной победившего пролетариата не намерен, что вот, например, на территории больницы Эрисмана упала бомба, но не разорвалась, потому что заполнена была песком, а не взрывчаткой, и в этом песке саперы нашли записку «Чем можем, тем поможем» – от германских рабочих, саботировавших свое военное производство.
– Это вы откуда знаете про записку? – спросила профессор Ильмъяр.
– Своими глазами видела. Помните, я же ходила в Эрисмана. Мне показывали бомбу. Лежит посреди двора.
– А на каком языке записка? На русском?
– На немецком, конечно. – Нина припомнила эту записку во всех подробностях, даже воспроизвела немецкий текст: – Was mochte das hilfe.
– Вот как? – Надежда Викентиевна засмеялась. – В таком случае, миленький, записку писали и бомбу начиняли песком советские студенты. На испытаниях по немецкому вам за такую записку, может быть, и поставили бы зачет. Но немец так не напишет. Напишет «Wirhelfen so gut wirkonnen» или что-нибудь в этом роде. Даже рабочий. Так что записочку вы придумали. Точно как Маша придумывает про красного командира, а блаженный Матвейка на кладбище – про крылатого Христа.
Нина покраснела. Мгновенье назад ей действительно казалось, что она своими глазами видела записку, тогда как на самом деле видела только бомбу, и нельзя было определить по бомбе, взрывчатка в ней или песок. Нина была честной девушкой.
– Как это? – спросила она. – Я же не хотела врать. Я же сама верила, что видела эту записку. Простите.
– Ничего, миленький. – Очень ласковым жестом профессор погладила Нину по щеке. – Я верю, что вы верили. Вот и они так верят в своего Христа с крыльями и командира в длинной шинели. Я и сама верила в то, что немцы – культурная нация, и всем говорила это, пока нас не стали бомбить.
Под бомбежку, вернее под артиллерийский обстрел, Нина попала впервые в начале ноября. Был выходной день, их комсомольский отряд противовоздушной обороны дежурил на Кронверкском проспекте. Выходя из дома, Нина положила в карман серебряные часы, оставленные Толиком. Украдкой, как бы стыдясь саму себя. Она как будто сама от себя скрывала, что постоянно была голодна. Выкупить продукты по карточкам было трудно. В булочных не каждый день бывал хлеб, а когда бывал, приходилось стоять за ним в очередях. По несколько часов. У Нины не было времени на очереди, а в клинической столовой кормили плохо, вырезали мясные карточки за котлетки из перемолотой жилы и хлеб давали не всегда. Магазинные очереди были молчаливыми и мрачными, в столовых все со всеми беспрестанно ругались. Всегда хотелось есть. Думалось только о еде. То и дело Нина ловила себя на изобретении самых фантастических фантазий про то, откуда у нее появится вдруг хлеб. Вот она пойдет по улице, а какой-то встречный военный подарит вдруг целую буханку. Или привезут раненого генерала, и он подарит хлеб после успешной операции… Теперь в районе их дежурства был Сытный рынок, а на Сытном рынке часы можно было обменять на хлеб. Как это сделать, Нина не представляла себе. В присутствии товарищей, конечно, не стала бы торговаться. Все дежурство не стала бы ходить с хлебом за пазухой. Но как-то вот она фантазировала, что пойдет на дежурство, а вернется с хлебом. И положила часы в карман.
День был серый. Все было серое – мостовая, дома, голые деревья в парке. Только трамвай по Кронверкскому проспекту бежал красный.
Комсомольцы прошли мимо Сытного рынка, прямо сквозь толкучку. Купить или наменять еды никто из них, кроме Нины, не мог, но, не сговариваясь, шли хотя бы посмотреть на еду. Еда была серая – хлеб, жмыхи, даже масло они видели в серой оберточной бумаге. И полами серых пальто укрывали еду серолицые люди.
Вдруг эта серая картинка словно бы разорвалась, а в ее изнанке полыхнул рыжий, красный и золотой цвет. И словно бы кто-то сильный ударил Нину ладонями по ушам и одновременно толкнул в грудь. Нина упала, скорчилась и зажмурилась. Сколько-то времени прошло, прежде чем она сообразила, что это рядом с нею разорвался снаряд. Подумала, ранена ли, но не могла определить. Открыла глаза, люди вокруг бежали, и рты у них были открыты так, как будто они кричали. Но Нина не слышала криков. А еще через несколько мгновений поняла, что и сама кричит. И только потом услышала свой крик. А там и все остальные крики. Люди кричали на бегу. Нина видела женщину, которая тащила за руки двоих детей лет пяти-шести. Видела старуху, которая залезала в трамвай и костылем махала вагоновожатой, чтобы скорее ехать. Почему-то некоторых людей Нина видела отчетливо, а некоторых – только как мелькающие тени.