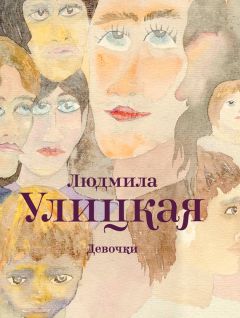Людмила Улицкая - Счастливые (сборник)
Все располагало к тому, чтобы Яся стала профессиональной проституткой, но этого не произошло.
За два года, проведенных в Москве, она достигла значительных успехов; у нее была временная прописка, временное жилье в чулане при школе, где она работала уборщицей и куда время от времени забегал к ней участковый Малинин, пожилой краснорожий благодетель, через которого она и получила все эти временные подарки судьбы. Посещения Малинина были кратки, для Яси необременительны и не слишком привлекательны для самого Малинина; но он был вдохновенным взяточником и вымогателем, а поскольку от Яси взять было совершенно нечего, то приходилось брать то, что дают.
В этом самом чулане на физкультурном мате, удачно заменяющем постель, Яся и рассказала Тане свою историю. Таня приняла все в сердце, испытав при этом сильнейшее сложносоставное чувство жалости, зависти и стыда за свое беспросветное благополучие. Яся, подробно, точно и сухо рассказав о себе все, что помнила, неожиданно увидела все прожитое со стороны и возненавидела его так сильно и окончательно, что никогда и никому уже больше не рассказывала этой правды. Она придумала себе новое прошлое, с аристократической бабушкой, имением в Польше и французскими родственниками, которые как черт из коробочки вынырнут еще в ее жизни в свой час…
Кроме Ясиного чулана было при школе еще одно жилое помещение, которое занимала преподавательница русского языка и литературы, военная вдова Таисия Сергеевна. К посещениям Малинина она относилась крайне неодобрительно, но это не мешало ей поручать Ясе надзор за своими малолетними детьми и всяческое мытье. За все эти соседские услуги Ясе разрешено было пользоваться книжным шкафом учительницы и не посещать уроков литературы. Таисия Сергеевна предпочитала, чтобы Яся в это время сидела с ее детьми.
Отслужив все часы своей службы, Яся ложилась на пахнущий потной кожей физкультурный мат и учила наизусть басни Крылова, без которых во все времена невозможно было поступить ни в какое театральное училище. Или читала вслух Шекспира от первого тома до последнего, разыгрывая трагическим шепотом все женские роли – от Миранды, дочери Просперо, до Марины, дочери Перикла.
Учителя вечерней школы, успевшие измотаться еще до обеда, обучая младших, дневных братьев своих вечерних учеников, не сильно донимали их уроками. К тому же половину класса составляли обитатели милицейского общежития, находившегося неподалеку, и усталые молодые мужики мирно дремали в полутемном классе, получали свои тройки и успешно шли учиться дальше, кто на юриста, кто по партийной линии… Яся была единственной во всем классе, кому парта была по росту, остальные застревали в этих деревянных станках, специально придуманных для мучительства малолетних…
Резкая, размашистая Таня двигалась шумно, с невоспитанной свободой жеребенка. Садясь за парту, она сдвигала ее так, что Яся слегка подпрыгивала своей легкой головкой. Сама Яся выходила из-за парты бесшумно, откидывая крышку и делая скользкое и ласковое движение бедрами. Она шла по узкому проходу к доске, нижняя часть ее тела как бы чуть отставала от верхней, и та нога ее, что в шагу была позади, чуть приволакивалась, замирала на носочке, а коленями она двигала так, словно толкала тяжелую ткань длинного вечернего платья, а не задрипанной юбочки. И прогиб в пояснице был какой-то особенный, и каждая часть ее тела совершала свои отдельные движения, и все они – и маленькое поигрывание грудью, и зыбкость бедер, и особое покачивание в щиколотке, – все вместе это было не отработанными приемами кокетки, а женской музыкой тела, требующего внимания и восхищения. Немолодой тридцатилетний милиционер Чурилин с крупным лицом в черных военных порошинах тряс головой ей вслед и бормотал:
– Ишь ты… ммм…
И непонятно было, что в этом мычании – отвращение или восторг. Впрочем, держалась Яся так независимо, что дальше чурилинского мычания у милиционеров дело не шло.
Возвращаясь домой, Таня все пыталась пройти в темноте ночного парка этой походкой, сыграть Ясину музыку своими коленями, бедрами, плечами – тянула вверх шею, приволакивала ногу, качала бедрами. Ей казалось, что большой рост мешал ей быть такой же привлекательно-зыбкой, как Яся, и она сутулилась. «В ней есть что-то от эльфа», – думала Таня и, устав от своих ходильно-балетных упражнений, неслась к дому, разбрасывая длиннющие ноги, делая неравномерные отмашки то правой, то левой рукой, вскидывая головой, отбрасывая назад набравшие вечернего тумана волосы, а Роберт Викторович, частенько выходивший встречать ее в парке в эти вечерние часы, издали узнавал ее походку и весь ее характер, запечатленный в несоразмерных движениях, и улыбался силе и несуразности на полголовы переросшей его дочери.
Оба они любили этот вечерний парк, ценили молчаливое взаимопонимание, тайное подтверждение их не высказанного вслух заговора против Сонечки. Роберт Викторович по врожденному высокомерию, Таня – по юности и наследственности, оба претендовали на благую часть отборного интеллектуализма, оставляя за Сонечкой низменные столы и хлеба.
Но Сонечке и в голову не приходило печалиться своей участью, ревновать о высшем: чисто мыла она тарелки и кастрюли, со страстным старанием готовила еду, сверяясь с рецептами, выписанными расплывающимися лиловыми чернилами из сестриной книги Елены Молоховец, кипятила баки с бельем, подсинивала и крахмалила, а Роберт Викторович иногда внимательно смотрел из-за ее большой спины на синьку, манку, струганное хозяйственное мыло, фасоль и со свойственной ему остротой отмечал убедительную художественность, высокую осмысленность и красоту Сонечкиного домашнего творчества. «Мудр, мудр мир муравья…» – думал он мимолетно и затворял за собой дверь на теплую террасу, где водились его суровые бумаги, свинцовые белила и еще немногое, что он допускал в свои строгие упражнения.
Тане дела не было до материнской кухонной жизни: она существовала теперь в дымке влюбленности. Просыпаясь утром, долго лежала с закрытыми глазами, представляя себе Ясю, себя с Ясей в каких-то привлекательно-вымышленных обстоятельствах: то они скачут через молодой луг на белых лошадях, то плывут на яхте по Средиземному, например, морю.
Ее вольное и бесцеремонное даже обращение со священным инструментарием природы обернулось для нее тем, что инстинкты ее немного заблудились и, деля со стройными мальчиками веселые телесные удовольствия, душой она тосковала по высокому общению, соединению, слиянию, взаимности, не имеющей ни границ, ни берегов. Ясю выбрала ее душа, и всеми усилиями разума стремилась она обосновать этот выбор, дать ему рациональное объяснение.
– Ах, мама, она кажется слабой, воздушной, а сильная – необычайно! – восхищалась Таня, рассказывая матери о своей новой подруге, о жестокой детдомовщине, побегах, побоях, победах. Яся в своих рассказах Тане из природной осторожности кое-что обошла: про ссылку матери, про детскую дешевую торговлю телом, про укоренившуюся привычку мелочного воровства.
Но Сонечке и сказанного было достаточно, чтобы заранее отозваться на детское страдание и догадаться о том, что от Тани оставалось сокрытым. «Бедная, бедная девочка, – думала про себя Соня. – И наша Танечка вот так же могла бы, ведь столько всего было…»
И она вспоминала все те многие случаи, когда Бог уберег их от ранней смерти: как Роберта выбросили из вагона александровской электрички, как рухнула балка в помещении, где она работала, и половина комнаты, из которой она за минуту до этого вышла, оказалась заваленной темным старинным кирпичом, и как умирала она на больничном столе после гнойного аппендицита… «Бедная девочка», – вздыхала Сонечка, и эта незнакомая девочка приобретала черты Тани…
* * *До самого Нового года Таня не могла зазвать Ясю в гости. Яся, пожимая плечами, все отказывалась, но не объясняла Тане свой упорный отказ.
А дело было в том, что ею давно уже овладело сильное и смутное предчувствие нового многообещающего пространства, и она, как полководец перед решающим боем, тайно и тщательно готовилась к этому визиту, связывая с ним самые неопределенные надежды.
В магазине «Ткани» у Никитских ворот она купила кусок холодной на ощупь и горячей на глаз, какого-то ошпаренного цвета тафты и поздними вечерами шила мельчайшими стежками, на руках, нарядное платье – в тишине и одиночестве, молитвенно и сосредоточенно, как беременная женщина, немного боясь сглазить заблаговременностью шитья одежд нерожденному ребенку самый акт появления его на свет.
Она пришла в двенадцатом часу тридцать первого декабря, к накрытому столу, за которым сидели и барбизонец, и поэт, и сверх того режиссер с птичьим носом и лягушечьим ртом. Она еще толком не разглядела их значительных лиц, но уже внутренне ликовала, понимая, что попала в яблочко предвкушаемой мишени. Именно они, эти взрослые самостоятельные мужчины, и нужны ей были для разгона, для взлета, для полной и окончательной победы.