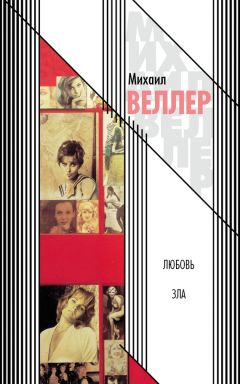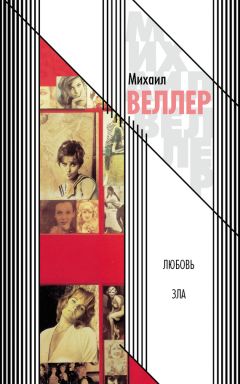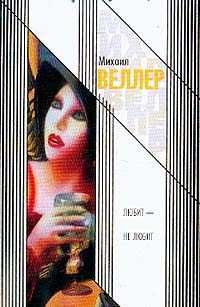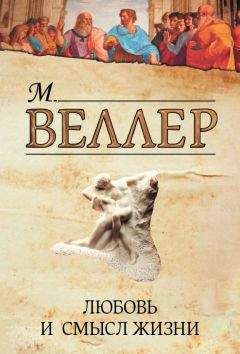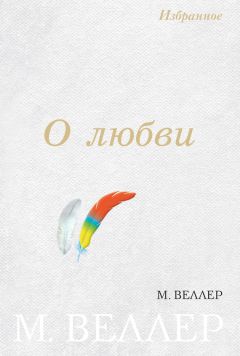Владимир Сорокин - Ледяная трилогия
Я занавеску приподняла: лес, лес и лес. Только деревья мелькают.
Села я, ноги свесила. Глянула вниз – сапог моих яловых нет. И одежды нигде нет. Свесила я голову вниз, гляжу по углам. Тут в горле запершило. И закашлялась. И сразу в грудь больно отдало.
Застонала я, за грудь взялась.
Тут, этот, который дремал, вскочил – и ко мне. Тот самый немец, что кувалды ледяные подносил. Засуетился, обнял меня за плечи, забормотал:
– Руэ, ганц руэ, швестерхен…
Уложил на кровать, одеялом покрыл. Вскочил, ворот застегнул, китель одернул, дверь отпер и выбежал. И дверь закрыл. И едва я что-то подумать успела, как входит главный немец.
Все такой же – высокий, белобрысый. Но уже не в черном. А в халате синем.
Сел ко мне на кровать. Улыбнулся. Взял мою руку. К губам своим поднес. И поцеловал.
Потом снял свой халат. А под халатом у него рубаха и штаны. Он рубаху снял. Тело белое такое. И начал штаны снимать. А я отвернулась.
Думаю: вот сейчас и сделает меня бабой. И как-то лежу, слышу, как его брюки шуршат, а мне совсем и не страшно. Лежу как бесчувственная. А чего мне? Такое пережила в той роще, теперь уж все равно.
Он разделся. Одеяло с меня скинул и стал исподницу с меня снимать.
Я лежу, в стену гляжу, на шурупы новые.
Раздел меня догола. А потом лег рядом. Погладил по голове меня. И стал к себе поворачивать. Я глаза закрыла.
Он меня тихонько повернул к себе, руками длинными своими оплел. И прижался ко мне ко всей. И грудью к моей груди прижался.
И все! Лежит, и все. Я думаю – это у них так, у немцев, с девками по-осторожному делают, сперва успокоют, а потом уж – раз! У нас-то в деревне – сразу, мне рассказывали.
Лежу. И вдруг я вся как бы передернулась, как от молнии. И сердце опять зашевелилось. Как зверушка. И сперва беспокойно так стало, непонятно все, будто меня подвесили, как окорок в погребе. А потом так хорошо стало. И я будто по речке поплыла. Понесло, понесло, как на волне. И я его сердце вдруг почувствовала, как и свое.
И его сердце стало мое сердце теребить. Так сладко-пресладко. По-родному.
Аж прожгло меня всю.
Мне так маманя – и то не была родней. И никто.
И я совсем дышать перестала, провалилась, как в колодец.
А он все теребит и теребит мое сердце своим. Как рукой. То сожмет, то разожмет. И я вся захожусь. Думать совсем перестала. Одного хочу – чтоб это никогда не кончилось.
Господи, как же это сладко было! Он как теребить сердце начнет, я прямо зайдусь, зайдусь и словно умираю. И сердце мое трепыхнется и остановится. И стоит, как лошадь спящая. А потом – торк! Опять оживет, затрепыхается, а он снова теребит.
Но все конец имеет на земле.
Перестал он. И мы будто померли оба. Лежим, как два валуна. И пошевелиться не можем.
А поезд все – тук-тук, тук-тук.
Потом он руки разжал. И на пол скатился, как бревно.
Я полежала, полежала. А потом села. Смотрю – он на полу совсем как мертвый. Но зашевелился. И вдруг обнял меня за ноги. И так по-родному!
А у меня даже сил нет заплакать.
Он встал, оделся. Уложил меня в постель, одеялом накрыл. И ушел.
А я не могу лежать. Встала. Шторы с окна отдернула, гляжу. А там лес, поля, деревни. Я на них гляжу, будто впервые вижу. И страха нет никакого. И такой в груди покой радостный. И все понятно!
Тут он вернулся. Уже одетый в черную свою форму. И мне одежду дает: платье красивое, белье разное, ботиночки, пальто, шарф и беретку. И стал меня одевать. А я на него смотрю. С одной стороны – стыдно, а с другой – в душе поет все!
Одел он меня.
Сел рядом. И смотрит своими глазами голубыми. И я на него смотрю.
И так хорошо!
Как бы не то что я его полюбила. Совсем по-другому хорошо. И словом-то это не выразишь. Как будто меня замуж выдали. Но только за что-то большое и хорошее. И на веки вечные родное.
И это вовсе никакая не любовь, как у девок с парнями. Про любовь я знала.
Я вообще-то дважды влюблялась раньше. Сперва в Гошку-пастушонка. Потом в Колю Малахова, уже в женатого. С Гошкой мы целовались, и он меня за сиськи тискал. На сеновал заберемся – и давай. А ниже хотел он меня полапать – а я не давала.
А в Колю Малахова я влюбилась сама. Он и не знал ничего и до сих пор не знает, если жив. Его, как и отца, 24 июня на войну погнали.
До войны его на Настехе Полуяновой женили. Ему семнадцать было, а ей шестнадцать. Мы на покосе вместе работали. Он косил, а я сушила да гребла. И в него втюрилась. Кудрявый он, красивый, веселый. Как его завижу – так сердце стынет. И стыд прошибает до костей. Вся так краскою и зальюсь. Даже есть перестала на два дня. А потом как-то и прошло. А после – опять. О нем только и думала. Все плакала: вот Настехе-дуре повезло! Ну, а потом как-то отпустило. Да и хорошо. А то чего мне по чужому парню сохнуть? Вот это – любовь.
А тут совсем другое.
И мы так целый день молча ехали. Рядом сидели.
А потом – остановился поезд. Встал немец, надел на меня пальто. И повел за руку через весь вагон. А там полно немецких офицеров. И сошли мы с ним с поезда на вокзале. Я глянула – ну и вокзал, не видала таких никогда! Огромадный, железный весь, нет ему ни начала, ни конца! Поездов – тьма! Народу – тьма! И все с вещами, все одетые хорошо. И все чисто кругом! Как в кино.
И повел он меня по вокзалу. А за ним те самые немцы идут. А за ними на тележке усатый мужик чемоданы везет.
Я иду, иду рядом. Все вокруг другое. И пахнет все по-другому. По-городскому.
И вдруг вокзал кончился. И мы вошли прямо в город. Такой красивый! И дома красивые. И здесь войны совсем нет – все дома целые, по улицам спокойно люди ходят. И с собачками даже. И на лавках сидят, газеты читают.
А мы подходим к машинам. Такие же черные машины, как тогда. И все сверкают. И все садятся в них. А я и главный немец – в первую машину. И машины поехали. Через весь город.
И я смотрю в окно и вдруг говорю:
– Вас ист дас?
А он засмеялся:
– О, ду шприхст дойч, Храм! Дас ист шёне Вин.
И быстро заговорил. Но я ничего не поняла. Я за два года, что у нас немцы стояли, знала разные немецкие слова. Даже ругательства знала. Но я же никогда в школе немецкий не учила.
И просто улыбнулась. Тогда он сделал знак немцу, который сидел впереди. Он встречал нас на вокзале. И был тоже белобрысым, голубоглазым. Но не в черной форме, а в обычной одежде. И в шляпе.
И он заговорил со мной по-русски. И мне показалось, что он поляк. Он сказал:
– Этот город называется Вена. Это один из самых красивых городов в мире.
И стал рассказывать мне про город: когда его построили и что в нем хорошего. Но я ничего не запомнила.
И вдруг главный командует шоферу:
– Стоп!
Остановились. Главный что-то сказал. И немцы закивали:
– Айне гуте идее!
И главный вышел, открыл дверь и мне делает знак. И я вышла. Посмотрела: улица. И магазин с красивой вывеской прямо перед нами. И от этого магазина такой запах! Я прямо обмерла!
И мы с главным заходим внутрь. А там зеркала кругом. И – тысячи конфет! И пирожков разных, и каких-то сладких загогулин. И стоят девушки милые-премилые в белых фартуках. И этот поляк сзади:
– Что ты хочешь?
Я говорю:
– Не знаю даже.
Тогда главный показал на что-то за стеклом. И девушка лопаточкой что-то стала делать, как тесто месить, а потом – раз! И подает мне такой фунтик с розовым шаром. Я взяла. От шара так сладко пахнет. Я попробовала – а он холодный. Даже зубы свело. Я на немца гляжу.
А он кивает: мол, ешь.
И я стала есть. Это как снег сладкий, но только поплотнее. Вкусно, но странно.
Ела, ела. И остановилась.
Вообще я тогда, после всего, что было, есть как-то не хотела. Но запахи нравились. Я говорю:
– Холодное. Много не съешь. Можно я подожду, пока оттает?
Немцы засмеялись. И поляк этот говорит:
– Это мороженое. Его надо есть холодным. Понемногу. Ты можешь не спешить и доесть в машине.
Я кивнула. И мы опять сели и поехали. По этим красивым улицам. А я смотрела в окно и ела потихоньку.
Но если по-честному говорить – мне мороженое не понравилось. Петухи карамельные, что батя с ярмарки привозил, вкуснее. Я их готова была день и ночь сосать.
Выехали мы из города. И поехали по холмам. И холмы эти становились все выше и выше, прямо расти стали до небес! Таких я сроду не видала. У нас было два холма между Колюбакино и Поспеловкой. Мы с девчатами, когда в поспеловское сельпо ходили, через эти холмы шли. На макушку взойдешь, встанешь – далеко видать! И дом наш виден как на ладони. Даже нашего петуха видала.
Но тут – дух захватывает. Дорога узкая пошла, заюлила, как змея, а вниз глянешь – ямы огромадные! И все это елками поросло.
Я спросила:
– Чего ж это такое?
– Это горы Альпы, – поляк мне ответил.
И едем мы по этим горам Альпам. Все выше и выше. Так высоко, что уже до облаков достали. И въехали в облака! Я вниз все поглядываю, а там и не видать ничего – высота такая!
И все мы едем и едем. И нет этому конца. И меня качает из стороны в сторону. А тут еще грудь саднить стала. И задремала я.Очухалась.
Кругом уже смеркается. Глядь – а меня на руках несут! И несет главный немец. Неловко так! Меня уж давно на руках никто не носил.