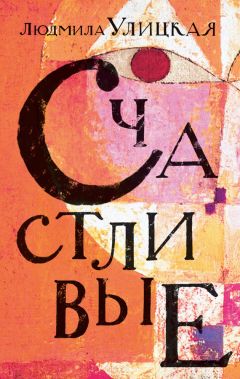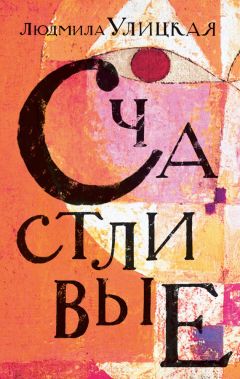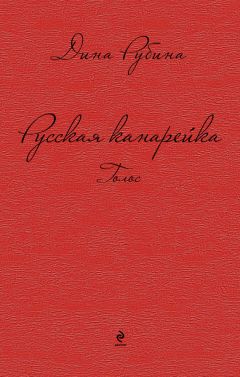Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
– Да не-ет, в том-то и дело. Тот был иранец. Они друг перед дружкой хлестались в русском мате – кто больше знает. Дружок его, иранец, Бахрам… Да-да, и не только дружок. Этот был женат на его сестре.
– Вот болван ты, Лю! Что ж ты зенки залил! Кто женат? На чьей сестре?
Кнопка Лю вдруг выговорил четко и рассудительно:
– Казах. На сестре иранца Бахрама… Они были свояки, родня, и оба учились в Москве… И ты прав, больше пить не надо.
– Казах? Заговариваешься, старина. Он же был, говоришь ты, немец? При чем же тут казахи?
– П-понятия не имею… Его так Бахрам называл. А как его звали по-человечески… не-не помню!
– Пойдем, отконвоирую тебя до фургона, – сказал Леон, вкладывая купюры в книжку поданного официантом счета. Пристально осмотрел пьяненького Лю, как рачительный хозяин, прикидывая, можно ли вытянуть из него еще хотя б одно дельное слово, и пустил последний шар в лузу: – Но сейчас он уже очень пожилой человек, почтенный бизнесмен. Все в прошлом. Штази разогнали. А он торгует коврами.
Лю, который уже приподнялся со стула, рухнул на него опять. Почему-то эта реплика Леона произвела на него гомерическое впечатление. Он ржал и плакал от смеха, просто лег грудью на стол. Пытался вытащить салфетку из салфетницы, чтобы утереть слезы, и не попадал пальцами в прорезь. Леон вытащил целую пачку и сам утер ему физиономию.
– Ковры… ковры… – не унимался эфиоп. – Штази разогнали? Таких людей не разгоняют! Такие люди, как он, и вдруг – ковры?! T’es con ou quoi?[40] Коврами торгует Леопольд, чистая, щедрая душа, знаток и мудрец. Но Казах? Который на моих глазах лично пытал женщину, выворачивая ей руки в суставах? Ну да, пожалуй… эта его фирма для того и украшена коврами, чтобы… Да знаешь ли ты, что в некоторых странах «калашников» дешевле курицы?!. – Он забормотал, пытаясь налить себе в кружку еще две-три капли вина из пустой бутылки: – Система запирания затвора, сборка механизмов – гениальное изобретение… А мой любимый РПГ? Нет, ты в этом ни черта не сечешь, моя певчая птаха, тебе и понимать не нужно… Просто в нашем мире есть кое-что, чем раньше я очень даже промышлял по глупой молодости лет. А сейчас – нет. Сейчас только – вот он, мой добрый и нежный…
Достал и прижал к щеке мешок для сбора мочи – странно, что помнил о нем и не выпускал из рук. Что значит – профессия, уважительно подумал Леон.
– В смысле – бах-бах? – спросил он, целясь в антиквара указательным пальцем.
– Не только бах-бах… – тот подмигнул и головой покачал. – Тебе это знать не стоит, мон шер Тру-ля-ля! Не только бах-бах, а еще то, что поднимает на воздух целые кварталы… если постараться вложить в игрушку бо-о-ольшую погремушку… А уж если такую погремушку где-то сильно захотят, а кое-кто сможет достать для нее начинку… Да ты хоть представляешь, кто сейчас его свояк Бахрам? «Бахрамчик» – он его называл, Казах то есть. Да, Бахрамчик. Большой человек.
– Генерал? – уточнил Леон, встряхивая Кнопку Лю. – Министр?
Тот снова согнулся от смеха, щекой припав к скатерти на столе.
– А ты при встрече спроси Казаха по-русски, ладно? И спроси, чем он сейчас торгует, кроме ковров… «Занаве-е-есь ковром свой альков… свой бесстыжий грех и младую кр-р-ровь…» Слишком много оружия, слишком мало войн, – бормотал он. – Слишком много железа на нашей небольшой планетке…
…и далее нес уже нечто вовсе неудобоваримое и был совершенно бесполезен.
Леон притащил его чуть ли не на себе к фургону, где кроткий Шарло, взглянув на маленького, вусмерть пьяного эфиопа, предложил поднять того в фургон – «пока не отойдет».
Что и было сделано ими сообща, с некоторым добродетельным усилием и не вполне добродетельными комментариями. Шарло – задастый француз лет пятидесяти пяти, добряк, усач и остроумец, любил крепко выразиться.
– Да… – спохватился Леон, уже отойдя от фургона, но через минуту вернувшись. – Я у него сегодня купил кое-что. Передай вот полтинник, когда проспится.
* * *По пути домой ему дважды привиделся бритый затылок Айи: на входе в метро (принадлежал юноше с мольбертом) и на рю де Риволи – она брела, пошатываясь, в обнимку с каким-то старым наркоманом (когда обогнал, нарисовались два мирных педика).
Бывает…
Но его неприятно задела собственная реакция: оба раза сердце вспархивало к горлу и там трепетало крылышками, как канарейка, тело же бросалось в погоню практически без всякой команды мозга, который в это время крутил ручку бешеной счетной машинки, вычисляя варианты: «Она в Бангкоке пересела на парижский рейс… она разыскала адрес – каким образом?!..» – и тому подобное жалкое бормотание безутешного ушибленного нутра.
Да ты что, мой дорогой Тру-ля-ля, сказал он себе голосом Кнопки Лю, t’es con ou quoi?
Слегка примирил с жизнью только вечер, который Леон провел в своем любимом, ласкательном кожаном кресле с заботливой подставкой под ноги (единственная, кроме тахты, современная вещь в квартире), обсуждая с Филиппом по телефону новые предложения. («Я сказал им – Дюпрэ?! Нет, увольте: это должен быть мощный эксклюзивный контратенор с репертуарным спектром “от барокко до рока”, а не очередной лучезарный мудак, у которого амбиции выше компенсации, но фа второй октавы – уже трагедия… И если вам не по карману Этингер, то…»)
Затем они продуктивно поругались насчет репертуара для предстоящего конкурса оперных певцов Королевы Елизаветы в Брюсселе и всласть посплетничали о недавнем секс-скандале в администрации Кембриджа, где вскоре Леону предстояло петь – в Часовне Кингс-колледжа.
Все это были насущные, азартные, волнующие, очень важные для него темы и интриги.
– Ты какой-то… не такой, – в конце концов сказал Филипп. – Какой-то пристукнутый. Отпуском доволен?
– Бургундия лучше, – помолчав, ответил Леон. – Следующий отпуск проведу у тебя в Жуаньи.
– И не пожалеешь, – отозвался Филипп.
Уютный вечер, уютный желтоватый свет старинной лампы (на фарфоровом основании, орнамент «Цветущая сакура», 1880 год, состояние отличное, куплена у Лю), наконец-то своя, своя, своя жизнь… И внезапный промельк вкрадчивой мысли: а приняла бы всю эту жизнь она, с ее фотоаппаратом, с ее грязным рюкзачком, с ее гордой беззащитностью? И настырное, обжигающее воспоминание о нити длинного шрама – от затылка до левой лопатки.
* * *С Джерри он встретился на следующий день; позвонил ему из театра, из кабинета администратора.
– Руди, это я! – сказал легкой будничной скороговоркой. – Ну, партитуру я приготовил, как и обещал, могу передать сегодня после спектакля, если потрудишься дождаться меня у служебного входа.
И Джерри, он же Руди, он же какой-нибудь Ицик или Арье, потрудился дождаться Леона после спектакля.
Время от времени Джерри появлялся на его спектаклях и концертах без всякой договоренности. Приходил, честно покупал билет, высиживал до конца. Интересно, что это – любовь к музыке? проверка безопасности? невинная слежка за каким-нибудь меломаном? ориентация на местности?
Встречаясь всегда только по делу, о музыке они не говорили; в общении Джерри был таким же… средним, как во всех остальных своих приметах. Профессионал, аккуратный исполнитель, хорошо обученный служака… Леон терпеть его не мог – из-за одной только его привычки: разговаривая, он тошнотворно трещал суставами пальцев.
Джерри дождался Леона на служебном входе, и, отъехав от «Опера Бастий», минут двадцать они проговорили, сидя в серебристом «Пежо».
– Поскольку операция находится в стадии активной разработки, меня, скорей всего, спросят, кто твой источник, – проговорил Джерри, пряча обе фотографии и флешку в дипломатический кейс, – и можно ли ему доверять?
Тут Леону следовало бы спокойно пояснить, что источник совершенно надежен и у него, Леона, есть свои причины пока держать его в тени. Вместо этого он по-дурацки вспылил и заявил, что не служит в конторе, не получает у них зарплату, все свои передвижения оплачивает сам и потому отчитываться ни перед кем не намерен. Их дело – брать или не брать сведения из его рук!
– Да ладно тебе, ахи[41], – удивился Джерри. – Чего ты раскипятился?
– Извини, – буркнул Леон, открывая дверцу машины. Но закрыл снова и, чуть подавшись к Джерри, проговорил: – В конторе знают, что всех своих людей я таскаю вот здесь: в нагрудном кармане. Никто из них меня еще не подводил. Но и я их на торги не выставляю. Довольно того, что я подарил вам Леопольда. Передай Натану все именно так и в том порядке, в каком я тебе изложил.
Вышел из машины, хлопнув дверцей, но вновь рывком ее открыл и сказал в полутьму салона:
– Джерри, давно хотел тебе сказать: кроме центральной кассы в «Опера Бастий» есть еще одна – за углом. Открывается за полчаса до спектакля. И там за двадцать евриков можно купить билет на приличное место.