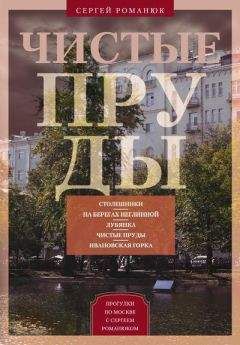Анна Бердичевская - КРУК
– Там будет. Чужая!
– Ты не опозоришься.
– Да?
– Ведь тогда в Москве меня с тобой не было. И Вольф тебя не знал. А теперь он все знает. И если он не боится, значит – не опозоришься.
– Думаешь?
– Знаю. А ты подумай, в чем выступать будешь. Может, что-то купить надо. Собирайся-ка, пойдем в магазин.
– Дейстфительно…
Соня вылезла из-под покрывала и стала собираться в магазин.
Перед отъездом в Лозанну Вольф успел поспать и вышел из номера прямо к отъезду, собранный и сосредоточенный. На нем были надеты черные джинсы, белая полотняная, сегодня купленная, рубашка, старый и породистый твидовый пиджак, сегодня почищенный. Он заглянул в номер к Асланяну и спросил:
– Паша, все готово?
Паша выкатил в коридор телегу, в которой кроме пачек «Розовощекого павлина» лежали нарядно упакованные сверточки.
Блюхер в компьютере отыскал по адресу дом Вольфовой тетки и прочертил маршрут. Ехать было минут двадцать от силы. Все спустились к «Ниссану» и отправились в гости, на сочельник.
Сочельник
Тетке было восемьдесят три, и ее звали тетя Надя – для всех русских. Иностранцам разрешалось обращаться к ней мадам Штейнберг или просто баронесса. Иностранцев пока не было. Она встретила Вольфа и его друзей в просторной прихожей небольшого двухэтажного, хорошо пожившего дома. Со всеми познакомилась и поздоровалась, Вольфа расцеловала и увела. С гостями остался ее сын Генрих, застенчивый пятидесятилетний человек, и экономка тети Нади тетя Вера.
Соня пошепталась с нею и отправилась готовиться к выступлению.
Генрих отвел мужчин в гостиную и предложил виски со льдом. «Ух ты!» – подумал Паша, снова очутившись в Серебряном веке и опустившись в глубокое, на этот раз резное, крытое гобеленом кресло. Он потягивал виски, сосал кубики льда и слушал, как Генрих рассказывает о баронах Штейнбергах и о многочисленной русской родне матери, урожденной Мусатовой.
– Моя матушка – родная сестра матери Вольфа. Они из древнего московского рода… Это я к слову. Мама не любит о родословной… О приезде Вольфа и его друзей нам сообщила бывшая жена кузена, мы и сейчас с нею дружим… она в Израиле живет. Сегодня мы ожидаем русского посла, нескольких профессоров швейцарских университетов, в основном славистов, кое-кто будет с супругами…
Он перечислял имена, фамилии и заслуги членов клуба любителей русской словесности, и Паша в удобном кресле стал задремывать, когда зазвонил его телефон. Впервые в Швейцарии у него зазвонил телефон.
Он выскочил из кресла, а потом и из комнаты.
– Я вас слушаю! – сказал Павел бодро.
– Але, это кто? – отозвалась трубка.
Паша узнал голос и обрадовался.
– А ты кому звонишь, папа, уж не мне ли?!
– Ты где?
– В Швейцарии! Я же писал, что собираюсь. А ты, папа, где? Звонишь откуда?
– Я?.. Я в Перми, на главпочтамте.
– И чо ты там делаешь в сочельник? Завтра Рождество!
– Ты вот что, сынок… возвращайся. К матери своей, к жене моей. Я ведь от нее ушел.
– Как – ушел? – не понял Паша.
– Как все уходят. Ты ей сейчас нужен.
– А ты?..
– Меня, считай, нет уже. Так что приезжай, трудно ей без тебя, и с домом, и одной… Прости меня, сынок. Ты уже большой… Может, когда и свидимся… Прощай.
Раздались короткие гудки, а Павел все стоял с трубкой, прижатой к уху.
По коридору шла экономка, тетя Вера. Посмотрела на Павла и спросила:
– Вы, молодой человек, должно быть, туалет ищете? Пожалуйте за мной.
Павел сунул мобильник в карман и пошел в туалет.
Там он умылся, намочил голову холодной водой и почувствовал жгучую боль непонятно где. То ли под ложечкой, то ли между лопатками. Он попил воды. Становилось все больней. Сердце сдавило. «Виски!» – вспомнил Асланян. И решительно пошел в гостиную. В коридоре он услышал, как где-то настраивают виолончель, звуки эти чуть окончательно не разорвали ему сердце, но он все-таки добрался до гостиной, налил в свой стакан все, что оставалось в бутылке, и выпил как воду. После чего сел в кресло и сидел в нем тихо.
В небольшую гостиную чередой стали входить гости. Приехал и Кульбер с Марго. Николай Николаевич сразу подошел к крепкому лысоватому человеку в очках, сердечно с ним поздоровался, подозвал Василия, познакомил. Затем Блюхера перехватил Генрих, который его тоже познакомил с несколькими гостями. Совершив полный круг по гостиной, Блюхер вернулся к Кузьме, с тревогой посмотрел на бледного, с потухшим взглядом Павла, который сидел напряженно выпрямившись, с пунцовыми пятнами на щеках.
– Кульбер разговаривает с нашим послом. Вон и Кайо пришел, видно с женой. Красивая… А дама рядом с Генрихом – французская переводчица с русского и с польского… Что это с Пашей?..
Кузьма не успел ответить, в гостиную вошел Вольф, держа под руку баронессу тетю Надю, и вечер начался. Открыл его Генрих, представив Вольфа по-французски и по-русски. Вольф в своем старом пиджаке и белой рубахе сидел, заложив ногу на ногу, он, несомненно, был всех элегантнее и свободней. Бог знает почему.
Вот он встал и сказал:
– Нас здесь немного, трех десятков нет. А кажется, что много. Это потому, что все мы – круг моей любимой тетушки, тети Нади, научившей меня в отрочестве, как я ни сопротивлялся, французскому языку. И еще потому, что мы собрались в ее небольшой и уютной гостиной, которая много чего помнит и хранит… А, скажем, в вагоне трамвая «Аннушка» на Бульварном кольце нас было бы мало… там каждый сам по себе и друг другу никто. Я, помнится, кому-то из здесь присутствующих о трамвае говорил… (Вольф не посмотрел в сторону Павла, но Асланян вдруг понял, что это о нем, и внутри у него разлилось живое тепло, он огляделся по сторонам и стал слушать.)… Все относительно. Великая банальная мысль. Первым релятивистом в России был Толстой. Он знал о странностях пространства и времени… Однажды, вытирая специальной мягкой тряпочкой пыль в своем кабинете, он не мог вспомнить – протер ли полочку над диваном, который, кстати, и сейчас можно отыскать в Ясной Поляне. Лев Николаевич написал эссе об этом. О том, что полка, когда потом он проверил, оказалась чистой, протертой, но своего движения, своего взмаха руки с тряпочкой Толстой не заметил, пропустил, то есть самого Толстого – и не было какое-то время нигде! Во всяком случае, у полочки – не было… Как же эту мысль расслышал Эйнштейн! Как счастливо присвоил!.. Причем не обязательно у Толстого… А за Эйнштейном – миллионы людей… Простейшая, ясная и своевременная мысль… Вначале мы ловим ее случайно и со стороны, но иной раз она становится нашей собственной… такая мысль и есть – поэтическая реальность, то есть самая краткая, самая необъяснимо емкая… Именно как стихи. Когда пишешь строчки столбиком на бумаге – понятия не имеешь, стихи ли это в самом деле. Только если они услышаны, если они с радостью присвоены другим человеком, вот тогда действительно… Давно живя на свете, полагаю, что не важно, сколько человек твои стихи прочло, важно чтоб кто-то прочел, услышал – и унес с собой. Именно запоминая, мы присваиваем живую мысль и чувство… и само время, саму реальность. Мы начинаем ее видеть, слышать, чувствовать. И любить… Мир божий, вечный двигатель на любви… безотходное пространство. Мы с вами, как все живое, противостоим энтропии… Про энтропию, кажется, не я сказал, кто-то другой, но я запомнил и присвоил немедленно!..
Вольф улыбнулся, и точно такая же улыбка разлетелась по лицам слушателей. Вольф продолжил:
– Сегодня я написал столбиком на бумаге несколько слов. Не могу ничего о них пока сказать, может, это и не стихи. Но я хочу с них и начать… Тетя Вера, пожалуйста, позовите Соню!
Экономка тетя Вера сидела за столиком у двери, на котором стопочкой расположились «Павлины», она дверь приоткрыла и позвала, как зовут свидетелей в зал суда. В гостиную вошла Соня Розенблюм, то есть она вошли вдвоем с виолончелью.
Виолончель была старая, а Соня как-то особенно, совсем молодая, в купленном сегодня днем сером платье из тафты с широкой и шуршащей юбкой.
– Позвольте вам представить, Соня Розенблюм, студентка Московской консерватории, ученица Натальи Гутман. Она открывала мой вечер в Москве… Откроет и сегодняшний.
Длинный парень в очках вскочил со стула, отнес его Соне и встал у стенки, опершись на каминную полку. Чанов и Блюхер внимательно на него посмотрели.
Вольф помолчал пару секунд и сказал:
– Вот строчки, написанные сегодня поутру.
Рождество
Соберусь на сочельник,
К Рождеству прилечу.
Я в заснеженный ельник,
Я под елку хочу.
В этом белом сугробе
Буду тайно лежать —
Как младенец в утробе —
И рождения ждать.
Кто-то тайну откроет
И меня навсегда
Из сугроба отроет.
Надо мною – звезда.
Вольф посмотрел на Соню и протянул к ней руку, как бы указывая, кто – звезда. Прозвучали негромкие, деликатные аплодисменты. Вольф снова повернулся к публике и объявил: