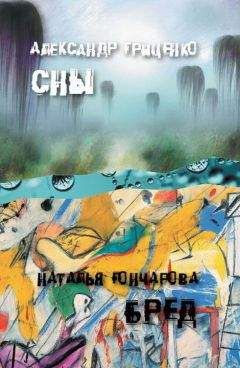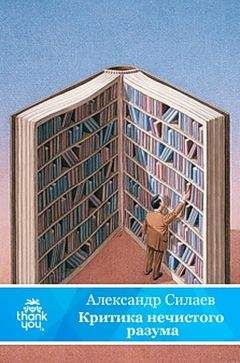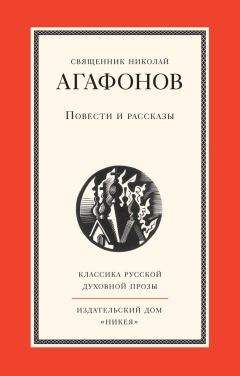Владислав Сосновский - Ворожей (сборник)
– Видишь свою страну, Ёжик? – обратилась она к цветку и так, держа его в руках, постояла какое-то время. Ветер легкими пальцами теребил ее медно-золотые в свете заката волосы.
– Говорит, что видит, – сообщила мне Чайка.
Я неожиданно понял. Их две. Чайка и Ольга – две родинки на плече Чайки. Она нигде и ни в чем не играла. В Чайке не было даже кокетства: ни в жестах, ни в интонациях, ни в действиях. Она жила в другом мире. Я мечтал войти в этот параллельный мир и стать его живым существующим жителем.
Чайка снова спрятала «Ёжика» в пакет и подала мне.
– Потом поговоришь с ним, – сказала она. – Он очень интересный. Он умеет выравнивать энергию Чи. Я приду завтра. Сейчас мне пора.
Я попытался поцеловать Чайку, но она юрко выпорхнула из моих рук и тут же растаяла во мгле. Оглянувшись на Бухту снова, я вдруг подумал, что это, наверное, она и есть – моя Бухта Провидения. А другой, пожалуй, и не нужно.
Мне захотелось узнать, о чем мыслит костяной путник. Я извлек его из кармана, потрогал пальцами ребристую бороду и тонкую палочку посоха.
– Что скажешь, схимник? – спросил я. – Как тебе нравится вся эта птичья история.
«Оторвись и лети за ней, – сказал странник, который, я подозреваю, когда-то был волхвом и любил глядеть на звезды. – Откроется тебе многое, – значительно добавил он. – Откроется тебе, что такое целостность, которая есть нечто большее, чем просто соединение. Соединение – это только сверкающий опыт прозрения, внезапная вспышка чего-то, что не происходит само по себе. Например, ненависть, зависящая от эго, неожиданно встречается с любовным качеством эго. Они оказываются рядом. Тогда любовь перестает существовать. И ненависть тоже. Почва взрывается. Возникает поток, несущий тебя к истине. Вот что происходит. Понимаешь?»
Я пожал плечами.
«Ничего, потом поймешь. Главное, не заострять внимания на открытии истины. Важен прорыв сквозь правду и ложь. Этот прорыв и есть любовь. Она подобна нити в четках, бегущей сквозь бусины. Истина лежит вне уровня сбывшихся надежд. Так что лети за Чайкой. Она – Дакини. Божество, покоряющее пространства и проникающее во все. Она откроет тебе тайны мироздания. Хотя она тоже женщина, – добавил костяной путник после некоторого раздумья. – А всепроникающее Божество и есть любовь. Дакини».
– Да, – сказал я и погладил небритый подбородок Ёжика.
«Только не приземляй ее. Пусть летает», – предупредил меня странник и ушел в себя, в свое бесконечное философское путешествие.
Я вернулся с «Ёжиком» в причальную избу, где еще витал и бился во всех углах дух Чайки. Прежние гости все так же сидели на своих местах с папиросами в зубах. Правда, немного раскрасневшиеся. Как после баньки. Было их четверо в ряд, а на столе возвышалось новое вино.
– А, писатель! – обрадовался Север Иванович, начальственно восседавший за столом дежурного. Был на нем черный с золотыми пуговицами морской китель с расстегнутым в пределах допустимого воротом. И там, у горла, вниз от шеи, горделиво обозначался треугольник тельняшки. Морской картуз с лаковым козырьком сидел на голове чуть набок, освобождая рвущиеся на лоб черные с проседью кудри капитана недвижного причала. По нему совершенно не было видно, что он пил спиртное, тогда как гости сидели уже порядочно осоловелые.
– Видел пространство? – весело поинтересовался Север.
– Видел, – улыбнулся я, выставляя Чайкиного «Ёжика» на подоконник.
– Ну и как тебе? – искал единомыслия капитан.
– Глубокое, – сказал я.
– Что глубокое? – не понял Север Иванович.
– Пространство глубокое, – пояснил я свое впечатление от зрительного исследования бухты.
– А-а, – достиг смысла моего определения Север. – Конечно, глубокое. Оно знаешь, чего? Оно, когда шторм, еще глыбже бывает, – восхищенно сообщил начальник причала. – Прямо, слышишь, дух захватывает.
Я вспомнил штормы Айвазовского, их застывший в красках, но очень впечатляющий, жуткий размах и сказал:
– Посмотрим.
– Вот-вот, – поддержал Север. – Смотри ситуацию кругом. И мотай на шею. Потом напишешь. Тут, слышишь, я тебе доложу, есть чего написать. Зуб на отрыв даю.
Капитан закурил и подвинул мне стакан.
– Наливай. У нас тут каждый сам себе наливает. По возможностям. Как чувствуешь. Хочешь – выпей. Хочешь – не пей совсем. Твое дело. Мне лично – с вином веселее, а другие как пожелают. Тут никто никого не неволит. А не то – выпей. Посидим, побалакаем.
Я плеснул себе в стакан и присел рядом с Севером. Мне хотелось, честно говоря, порасспросить капитана о Чайке. Потому я и выпил с ним для задушевности и закусил все тем же резиновым палтусом.
– Чайку проводил? – сам вышел на разговор Север.
– Проводил. А как же, – ответил я, втайне радуясь, что разговор начался именно с того, с чего мне хотелось. – Только куда я ее проводил – неизвестно. Она взяла и нырнула в темноту, в ночь, можно сказать. Канула в один момент. Я рта открыть не успел.
Север добродушно засмеялся. Засмеялись и охмелевшие гости.
– Артистка, – повторился в определении Чайки капитан причала и по-простецки поскреб затылок, сдвинув морской картуз на глаза. – Она, я чувствую, мозги тебе еще поштурмует. Но ты, писатель, слышишь, не обижай ее. Девка она наша, морская. А что чудит, так это знаешь, неизвестно – отчего. Хотя, что тут неизвестного. Трагедия у нее в детстве была. Можно сказать, дикая штормяга, ей-богу. Слышишь, на все двенадцать балов. Батя у нее на прииске работал. Разнорабочим. Но это так. Второе у него было назначение. В основном, ходил с ружьем в тайгу. Сильно хороший охотник был. За то его и ценили. За то и держали. Даже кличку ему на прииске дали – Санька-охотник. Вот он зимой пойдет, завалит пару-тройку лосей, мишку из берлоги отковыряет. Ну и там… по мелочам – соболя, горностаи женам начальства на воротники. Те и рады. Да и на прииске всегда мясо. Всем хорошо. Ну вот. Зимой, стало быть, он там, в тайге трудится-промышляет, а как сезон кончается – домой. Деньги большие. Пил без передышки. Да вон, Степа его знал. Помнишь, Степ, Саньку-охотника?
– Чего? – сказал окаменевший от вина невзрачный мужичок в рабочей фуфайке, похожий на старую дворнягу.
– Я говорю: Саньку-охотника помнишь?
– А чего? – заинтересовался захмелевший Степа.
– Чего-чего! – раздражился Север. – Саньку-охотника помнишь?
– А чего ж. Помню, – доказал Степа.
– Ну вот, – удовлетворился, наконец, капитан. – Этот Санька-охотник, слышишь, как раз и был отцом Чайки. Он, значит, приезжал после зимнего сезона с кучей набитых карманов и начинал гулять. Причем, знаешь, все ж гуляют по-разному. Санька был буйный. Он крушил все в доме. Потом, правда, шел и снова покупал прежнее имущество. А то почем свет жену колотил. Того я, врать не буду, своими глазами не видел. Я тогда еще в море ходил. Но вот Степа знает. Вот он перед тобой с красной мордой сидит. Да и все тут эту историю наизусть знают. Потому что… А потому что у этого идиота, Саньки-охотника, была такая страсть: пьяный хватал дочь, а ей тогда аккурат лет пять-шесть было. Ну, ребенок же, понимаешь – нет? Ну вот. Брал он ее, значит, и тащил на берег. И знаешь, зачем? Учил по хмельной лавочке чаек стрелять. Вот, видать, она, Чайка, и насмотрелась, и начувствовалась. Ребенок же!
Север налил себе еще вина, не спеша выпил.
– Ну вот. Однажды этот Санька, значит, тяпнул спозаранку и давай, как водится, колотить все в доме. Бьет посуду, лупит жену. Гуляет, одним словом. Да так стукнул Ольгину мать, что та, бедная, залилась кровью и свалилась без сознания.
– Ольгину? – переспросил я, леденея.
– Ну да. Ольгину, – подтвердил Север. – Настоящее имя-то Чайкино – Ольга. Это потом она в Чайку переделалась. Мол, Чайка я и Чайка. И все тут. Так и прозвали потом. А когда, значит, мамаша рухнула, а Санька уже не знал, чего еще в доме сокрушить, выходит из другой комнаты Ольга, маленькая тогда, помню, белобрысая; выходит с двустволкой и в упор, слышишь, прямо в упор лупит из винта папашу дорогого. Ну что. Схоронили Саньку. Отстрелялся в своей жизни. Мать слегка тронулась головой, а Ольга долго лежала в больнице. Лежала, лежала, затем вышла. Но вышла уже Чайкой. Вот такой тебе, писатель, образовался девятый вал. Ты, брат, выпей. Сидишь, как замороженный.
Я выпил вина. Имя Ольга парализовало. Все тут было для меня не просто так. Но что именно, предстояло еще узнать.
– Дальше у Чайки, – продолжил Север, – все вроде бы восстановилось. Помогала тетка. Но с тех пор Чайка стала не такая как все. Как бы не от мира. Живет тут неподалеку. Со своей придурковатой мамашей. Вот что человек натворил. Санька этот, охотник. Двух людей искалечил, и сам на тот свет ушел. Работает Чайка в библиотеке. Или в музее. Краеведческом, что ли. Точно не скажу. А к нам даже не помню, как стала она захаживать. Придет, бывало, сядет на лавочку, уставится в одну точку и сидит. Ну, нам-то что? Сидишь и сиди на здоровье. Матюгнуться, правда, неудобно. Посмотришь на нее – больно. Красивая девка, красавица, можно сказать, и такое несчастье. Подкатывался к ней один хмырь. Чуть было не завалил где-то. Прибежала вся зареванная. Я, конечно, мозги ему слегка встряхнул. Чуть было, честно говоря, вообще не вышиб. С тех пор никто не суется. А к тебе, – Север хмыкнул, – надо же! К тебе пошла ластиться. «Ветер!» – передразнил он Чайку. – Не обижай ее, писатель. Она славная девочка. Только сильно ранимая.