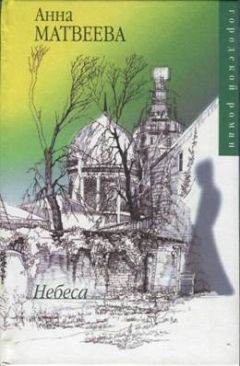Анна Матвеева - Призраки оперы (сборник)
Согрин поежился, отгоняя неприятную мысль о том, что за эти годы Татьяна могла стать мертвой. Она обещала умереть еще тридцать лет назад. Говорила: «Жить я все равно не буду!» СОГРИН очень надеялся на Бога, с которым у него сложились неплохие, прямо скажем, отношения, что Он все эти годы внимательно наблюдал за Татьяной и что она благодаря высокому присмотру осталась живой. Согрин полагал, что Татьяна не слишком располнела, хотя, если честно, ему было все равно.
Картина важнее рамы.
Согрин повторил эту фразу вслух и почувствовал, как внутри зажигается радость, похожая на белые звездочки бенгальских огней. Два дня!
Он не пытался найти Татьяну раньше, чтобы не скостить ненароком срок. Ее следы скрывались в тридцатилетнем прошлом: тогда она обещала уехать из города, звонила Согрину, приезжала к нему в мастерскую – он бросал трубку, не открывал двери. По-другому было нельзя, но Татьяна этого не понимала. Искала его снова, уговаривала, умоляла и потом, отчаявшись, начала сдаваться, уходить, умирать…
Впервые они встретились в оперном театре, где Согрин навещал совсем другую даму – «Кровавую Мэри». Далекий от музыки художник (а СОГРИН тогда всерьез считал себя художником) услышал от друзей, что в буфете оперного театра вечерами продают коктейль из водки с томатным соком. Билет в оперу стоил в те годы рубль, коктейль обходился совсем в смешную, копеечную сумму. Дешевле, чем в кабаке, и закуску никто не навязывает. Походы в оперу вошли у Согрина в привычку, и в тот вечер он, как водится, не собирался входить в зал, откуда неслись торжествующие или в зависимости от того, кто и как слушает, печальные звуки увертюры. Художник тихо поглощал свою «Мэри», буфетчица Света строила ему глазки – скорее автоматически, нежели от всей души. Света была девушка видная, место в жизни нагрела себе теплое, а что Согрин? Деньгами не пахло, пиджачок сидел скверно, тянул линию плеч куда-то вверх, да еще и водку клиент хлестал с отчаянным удовольствием, какое Света часто видела в глазах родного папаши, алкоголика в третьем поколении. Согрин интересовал буфетчицу разве что в статистическом смысле – еще один мужчина пал жертвой ее красоты. Визиты в буфет походили на признание – пара спектаклей, и позовет в кино, как пить дать. Света вздыхала, давала пить, Согрин тянул красную водку, разглядывая рисунок на линолеуме – тонкие черные линии, мутные голубые ромбы. В зале спорили скрипки и голоса. Затянутые в синие френчи контролерши с длинными свитками программок наперевес шагали по фойе, как декоративный караул.
Согрин не был готов к появлению Татьяны, но она все равно появилась. Не в буфете, правда, а на сцене. Хитровертая судьба плела косицу из людских жизней. Прядочка сюда, прядочка сюда, давай, внуча, ленточку. Лента наглаженная, атласная, пахнет раскаленным утюгом… Каждое утро, забирая волосы в хвост, Татьяна вспоминала бабушкину присказку.
Согрин вытряс в рот последние капли коктейля, проглотил кислую ледышку и уткнулся расслабленным взглядом в своего знакомого Потапова и его жену в красном платье. Красном, как коктейль. Встречаться с ними, вполне безобидными, кстати говоря, людьми, опоздавшими к началу спектакля, Согрину почему-то не захотелось, и он сбежал из буфета. Потапов сосредоточенно выбирал пирожные, красное платье сверлило взглядом Свету, а контролерша строго сказала Согрину:
– Мы после третьего не пускаем!
Согрин начал объяснять, что выпил всего два, но потом разобрался – контролерша имеет в виду театральные звонки, от которых школьники, насильственно загнанные в культурную среду, покрываются привычной испариной. Спасла Согрина, как обычно, искренность. Он любого мог зарезать этой искренностью, как кинжалом.
– Там мой начальник, – искренне врал СОГРИН, – заметит, что я выпимши. Позор, осуждение трудового коллектива, выговор с занесением в личную карточку, лишат премии, дадут отпуск в ноябре. А если я в зале – все в порядке! Приобщаюсь к искусству…
Из-за угла вырулило красное платье с Потаповым. Потапов незаметно вытирал липкие пальцы о брючину, платье осмысляло прическу буфетчицы Светы.
– Он? – качнула головой контролерша. – Ладно уж, горемыка, заходи.
Добрая, открыла двери. Согрин бессмысленно разглядывал хор крестьянских девушек на сцене. И увидел Татьяну.
Оперный театр – целый город со своими улицами и домами, законами и правилами. Невидимый занавес крепостным рвом отсекает театр от города, так же как видимый – сцену от зрителей. Высокогорный замок готов к штурму. Ворота на запор, мост поднять, раскаленное масло приготовить!
Тридцать лет назад здание театра было выкрашено голубой краской. Согрину нравился старый наряд театра, новый казался ему слишком блеклым. Словно бы театр поседел, как поседел сам Согрин. Словно бы он побледнел в декорациях новой жизни, что безжалостно перемешали в городе все краски: как будто рехнувшийся художник сложил небесный вивианит с орселью неоновых вывесок, смешал бланфикс снега с грязной выхлопной сепией… Согрин давно не думал о себе, как о художнике, и только краски мучили его так же сильно, как в юности. Краски-демоны являлись без всякого желания, возникали не в осенней листве и небесах, а просто в воздухе, из пустоты. Дар, доставшийся Согрину, так и не превратился в талант, и к старости от него уцелели обрывки и лохмотья. Неровные полосы красок на ладони, подтекающая, плачущая палитра. Дар не радовал Согрина, а мучил его, как будто он носил груз, горб, тяжесть без всякой надежды однажды сбросить ее.
Согрин изменился, но еще сильнее изменился город. Крикливые машины – «раньше их столько не было», брюзжал Согрин. Яркие, разухабистые рекламы предлагали Согрину купить модную технику, открыть накопительный счет в банке и отправиться в тур к далеким островам. Согрин остановился в своем развитии потребителя.
Ему надо было найти Татьяну.
Глава 2. Искатели жемчуга
– Где же я найду вам Татьяну? – нервничал главный режиссер, мужчина выцветший и хмурый, с созвездиями мелких ссадин на лысине.
Главный дирижер Голубев с чувством болезненного наслаждения разглядывал эти ссадины, представляя, как коллега бьется головой об острые углы полок и разверстые дверцы шкафчиков. Разговор был бесполезным: Голубев все решил, спектакль никуда не годится, и надо срочно искать другую Татьяну. Новый сезон прекрасно показал, что Мартынова не вытягивает. Кроме того, Мартынова не нравится Леде, а это еще хуже. Спорить с Ледой дирижер не стал бы даже в том случае, если бы та вознамерилась поджечь театр. Неважно, что режиссер ярится, от него, будем откровенны, ничего не зависит. Голубев улыбнулся, не в силах оторвать взгляд от особенно заметной ссадины на режиссерской лысине.
Последняя привязанность дирижера, статная и кучерявая Леда Лебедь, была ведущим меццо-сопрано. «Золотое руно какое-то», – ворчала супруга дирижера, образованная и терпеливая Наталья Кирилловна. За долгое время жизни в театре Наталья Кирилловна свыклась с ее превратностями и воспринимала очередную влюбленность мужа с пониманием и даже некоторой радостью. Люди устают друг от друга, особенно в браке, а тут, извините-подвиньтесь, речь идет об искусстве, где свежая кровь требуется в ежедневном режиме (будто на станции переливания), и переживания творца должны обновляться так же регулярно, как костюмы для спектаклей.
Очередная пассия дирижера была в глазах коллег не столько телом, сколько тельцом, жертвой, принесенной на алтарь искусства. Одна – за всех. И если жертве при этом удавалось устоять на ногах, да еще и получить себе новые привилегии и козырные партии, театр начинал уважать ее: молодец! Не просто романтическая свиристелка.
Леда Лебедь была молодец. Она ловко взяла маэстро в оборот, закрутила проводами своих кудряшек («Горгона прямо», – еще так ворчала Наталья Кирилловна) и стянула крепким узлом – не вырвешься. Маэстро зачарованно смотрел на Ледины спиральные локоны и думал, что ей не нужны парики. Только Любашу поет в чужой косе, кудри не ложатся в образ.
– Лебеди-голуби, птичник, прости Господи, – стонал главный режиссер по дороге к себе в кабинет. – Эта еще и Леда сразу, и Лебедь. Полный набор. Снесется, как пить дать!
Ему не стоило даже думать презрительно в адрес Леды: она же Наина, она же Гедвига, она же Кармен и четыре раза в год Церлина. Если бы Леда могла спеть Татьяну, она, будьте спокойны, спела бы. Некоторые певицы с легкостью отбрасывают приставку «меццо» и поют выше всяких границ и похвал, но вот Леде, к сожалению, таких виражей не исполнить. При малейшей попытке замахнуться на недоступную партию она тут же начинала пропускать ноты, выпадала из тесситуры, злилась и… возвращалась к Любаше с Кармен. Что в принципе ничем не хуже Татьяны и Виолетты. Это Леда была устроена таким образом, что ей хотелось быть всем и сразу, а другие на ее месте вполне могли быть довольны.