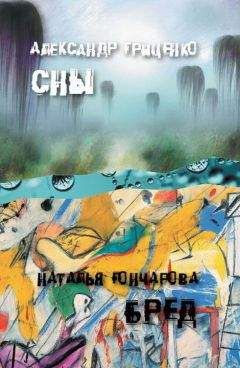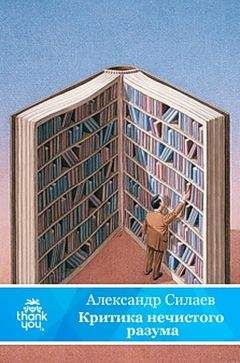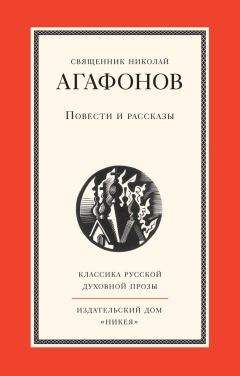Владислав Сосновский - Ворожей (сборник)
Соединился с Москвой я неожиданно быстро. Слышно было на удивление хорошо. Как из соседней комнаты. Сбивчиво, перекатываясь через волнение, я начал повествовать Валентину о своей горемычной доле, но он прервал меня, так как ему уже была известна моя история. Не жестко перебил меня Валентин, не убийственно строго, не укоряюще. Скорее, сочувственно прервал. Как руку подал. И вот этого я никогда не забуду.
– Чем сейчас занимаешься? – спросил Валентин после нескольких теплых, утешительных слов, которых теперь и не припомнить.
– Горюю, – сказал.
– Брось, – посоветовал Валя. – Плюнь на все. Главное – ты жив, здоров. Лично я помочь с вылетом не могу: семья, дети. Сам понимаешь. Но там, в Желтом, в Союзе Писателей, есть поэт – Ваня Плетнев. Он ходит первым помощником капитана на сейнере «Славный». Найди его и передай от меня привет. Он что-нибудь придумает. В крайнем случае, шагай в порт. Ты парень крепкий. Платят, я думаю, там неплохо. Погрузишь чего-нибудь и вернешься. Опять же – впечатления. Не падай духом. На Придорожного не серчай. Он – фигура мелкая. С него потребуют, он ответит: «Есть!». И больше ничего. Так что держись! Не вешай нос! Опять же, не забудь насчет чайки. Все. Обнимаю. Звони.
Я вышел из телеграфа облегченно радостным. Гора, висевшая на плечах, обрушилась в телефонной будке. Глотнул свежего воздуха и вдруг почувствовал, что голоден, как последняя дворняга. У меня оставалась еще какая-то мелочь. Из соображений экономии купил бутылку кефира и булку.
Пока я рвал зубами мягкий хлеб, в голове моей переворачивались два румяных Валиных варианта: либо идти в Союз Писателей на поиски поэта-моряка, либо прямиком шагать в грузовой порт, чтобы предложить себя в качестве тягловой силы. Второе мне было милее. Моряк, тем более поэт, Ваня Плетнев, конечно, – я был в этом уверен, – не остался бы безучастным, как зомбированный секретарь Придорожный, у которого все было или «положено» или «не положено». Но мне не хотелось никому быть обязанным. Ни от кого не хотелось зависеть. В отношении порта, правда, тут же назревал насущный вопрос: где ночевать? Проживание в гостинице кончилось. Поэтому, как ни заманчивее казался порт, предпочтительнее по всем пунктам выходил Ваня Плетнев. На совсем уж худой конец оставался Гена из «Ласточки».
Вечером я должен был забрать вещи из гостиницы и куда-то переселиться. Вот в этом и заключалась вся загвоздка.
И вот для начала я направился в Союз Писателей, где надеялся отыскать помощника капитана дальнего плавания, хотя этот самый, необходимый мне помощник, поэт Ваня Плетнев, очень просто мог находиться в данный момент в далеком плавании, где он одной рукой обеспечивал страну рыбой, а другой – писал маринистские стихи.
Городской Писательский Союз располагался в каком-то административном здании среди массы контор одиночных организаций, на дверях которых красовались замысловатые вывески. Наконец, в одном из коридоров я нашел то, что мне было нужно. Хорошенькая девушка с полными губками и густо накрашенными ресницами, исполнявшая здесь обязанности дежурной или секретарши, оживилась с моим появлением, ибо она явно скучала на своем ничего не производящем производстве.
Она, эта дежурная секретарша, сразу закурила для пущей важности и, разглядывая меня от волос до ботинок, ласково объяснила, что Ваня Плетнев сейчас в плавании и ожидается не раньше октября. Что до остальных, коих не так и много, все, естественно, в отпусках, на материке. Поэтому у писателей мертвый сезон. Она вздохнула, кокетливо поправив локон медно-рыжих волос. Вот и они с мужем, как только он не сегодня-завтра вернется из геологической экспедиции, и дня не задержатся в Желтом. Потому что, во-первых, тоска, а во-вторых, на юге бархатное лето в разгаре, и их уже заждались.
Теперь вздохнул я. Тучи надвигались вновь.
– Стало быть, никого? – безнадежно спросил я.
– Ну почему? – наморщила лобик хорошенькая дежурная. – Поэтесса Нина Шабалина здесь. Но она уехала к маме, в Ягодное. Есть еще Николай Аркадьевич Рыжов. Правда, он заядлый таежник, и как только сходит снег, его из города ветром выдувает аж до нового снега. А вы кто же будете? – полюбопытствовала труженица литературы.
– Мы будем Никитин Олег Геннадиевич, – дружелюбно улыбнулся я. – Проездом из Москвы. Сотрудник издательства Н. Не слыхали?
– Да, да, конечно! – с театральным пафосом соврала секретарша.
– Хотелось повидать кого-нибудь из писателей, – соврал в свою очередь я и поправил галстук, собираясь уходить. – Жаль, не судьба. Рад был познакомиться, – еще раз улыбнулся я, так, впрочем, до конца и не познакомившись. На секунду задержался в двери. Была одна заноза, которая не давала покоя, ныла, как рана, и я обернулся.
– Раз уж у нас с вами случилась такая очаровательная встреча, – выдавил я из себя, что из засохшего тюбика, так как дальше речь должна была пойти об одолжении, а одалживаться я ненавидел, но ничего не оставалось, как продолжить, и я продолжил: – У меня к вам огромная просьба. Мне предстоят поездки по области. Нельзя ли оставить у вас на время кое-какие вещи? Буквально на несколько дней. Пребывание в гостинице закончилось. Я оказался в затруднении.
– Ради Бога! – воскликнула дежурная так, словно всю жизнь ждала этой минуты.
Я облегченно вздохнул, подумав, что ложная скромность часто бывает только во вред и что, к счастью, не перевелись еще на свете такие вот добросердечные Анжелы Ивановны – так звали, как выяснилось, хорошенькую секретаршу.
Я волок к Анжеле Ивановне пудовые чемоданы и с ощущением благодарной радости ловил языком капли пота, катившиеся с висков прямо по щекам.
Сбросив вещи в комнату отзывчивой Анжелы Ивановны, я поцеловал ей ручку, рассыпался в комплиментах, при этом был совершенно искренен и выразил сожаление, что она столь рано вышла замуж, пусть даже за отважного северного геолога.
Я был красноречив, а Анжела Ивановна цвела на глазах, напуская на себя ту самую ложную скромность, от которой, как выяснилось, нет никакой пользы. Расстались мы близкими друзьями, во всяком случае, отношения наши сложились в самой мажорной тональности.
Теперь я неторопливо брел развальной походкой портового грузчика, воображая себя не меньше, чем Куприным, которого в свое время знала и любила вся трудовая публика Черноморского побережья. Тут было другое море, другие, может быть, люди, но плечи и руки нужны были такие же. Руки и плечи я имел крепкие и потому был твердо уверен в своей пригодности к такому делу как разгрузка-погрузка портовых судов. Ну покатаю бочки, потаскаю мешки, ну поворочаю-поношу ящики и коробки. Кроме мышечной пользы и бодрости духа – никакого вреда. Заработаю себе и на Анадырь, и на Певек, и на Бухту Провидения. Самостоятельно. Набью железные мозоли и полечу. Без всякой дармовой лафы и придворных демагогов. Значит, так решено Наблюдателем. И, скорее всего, Он все выстроил и определил верно.
Я вытащил дорожного своего путника, костяного философа и вопросительно посмотрел на него, мол, что скажешь, дружище. Философ, как и всегда прежде, глубокомысленно наблюдал за какой-то основной точкой в пространстве и вдруг изрек: «На всякий случай запомни, что слово «характер» происходит от древних терминов «отметить» и «запечатлеть». Иные же отождествляют слово «характер» со словом «клеймо», которое вавилонские кирпичники ставили на каждый выделанный кирпич. У каждого из них было свое клеймо. Поразмысли над этим знанием. Гори всегда, везде и никогда не угасай». Тут мыслитель замолчал, и я благодарно спрятал его в карман, так как понял, что мой друг все-таки не безучастен к моей судьбе и, сидя в темном полотняном убежище, переживает о ней и подпитывает мою энергию.
В порту меня приняли по-мужски. По-деловому. Без объятий и хлеба-соли товарища Придорожного. Рабочие, конечно, им были нужны.
С меня немедленно стребовали документ, предварительно оглядев физиономию: не имеется ли на ней следов крепких напитков. Этого не наблюдалось, и тогда береговой начальник кадров, человек в морском бушлате, с густыми морщинами на лбу, при красивых серебряных усах, стал листать мой паспорт. Портовые работяги по случаю обеденного перерыва сидели вокруг него. Проштудировав документ от корки до корки, кадровый начальник сдвинул фуражку на затылок и озадаченно хмыкнул. Похоже было, мой мандат чем-то его существенно не устраивал.
– Ты это… – сказал врастяжку распорядитель грузчиков и прочих морских сил. – Откудова, говоришь, прибыл?
– Из Москвы, – ответил я, холодея, так как начал улавливать, что на моем пути возникло какое-то новое препятствие. Какая-то очередная, жуткая преграда.
– Видали! – объявил комиссар по кадрам остальным портовым трудягам, заинтересованно смолившим речморские папиросы «Беломорканал», красноречиво напоминавшие о нашей великой истории. – Он, понимаете, из самой Москвы приперся сюда грузчиком. Всю жизнь мечтал. Там что, в Москве, нечего грузить стало?